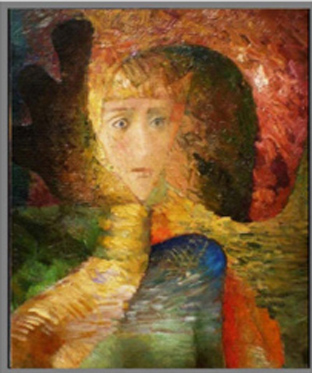|
ИЗБРАННОЕ, том 2
РЕВИЧ Он меня не подначивал
тонкой структурой сонета, Он, уверенный мастер,
владеющий всем арсеналом, Он не шёл никогда на
базар многоликий и злачный, Проходили года. Он
писал всё нежней и прозрачней, Понимали, конечно, но
не говорили об этом, Январь 2014 БАЛЛАДА О МАРАФОНСКОМ БЕГЕ Марафон, как всегда,
начинается кучно: Поначалу забег
развивается скучно – Трое-четверо-пятеро,
группа за группой, По асфальту дороги
давай себе хрупай, ибо помнится это и
давит на нервы – Вот и длится забег уже
более часа, Но тотчас же
семь-восемь участников бега И теперь они движутся
лидерской группой,
К завершенью подходит
страда марафона, Он бежал и не ставил
особой задачи, Январь 2014 *
* *
Сорок лет – это два поколенья,
не уставших под
огненной синью Сорок лет – это два
поколенья, Февраль 2014 *
* * Мысли вязнут в земной
бытовой паутине; А планета – песчинка в
окрестностях Солнца, Вот прорыв паутины,
где мысли увязли! Ты с волненьем и
страхом подходишь к порогу. Не исчезнут заботы о
хлебе и масле, Февраль 2014 БАЛЛАДА О ДИССИДЕНТЕ Когда в квартире
собиралось вече, Ему довольно было
чашки чая Он просто молча
слушал, отмечая А после возвращался
одиноко Потом он до утра писал
на кухне – и это был оригинальный
взгляд, – и по каналам, лишь ему
доступным, А после «голоса»
передавали его скрывал надёжный
псевдоним: никто не знает –
значит, и не выдаст, А в «перестройку»
разрешили выезд, В Израиле прибился он
к журналу Об опусах его пошла
сначала мол, пишет хорошо и
ненатужно, былое знает и о нём не
врёт; Он попытался снова
стать ценимым вот тут и поджидал его
удар!
В журнал пошли звонки,
что тот, давнишний, И понял он, что городу
и миру от всех явлений
остаётся миф. Кого-то будет радовать
шумиха, Февраль 2014 *
* * …Но ведь было же
счастье такое, лишь коснувшись
подушки щекою, Было счастье съедать
что попало Было счастье захлёбно
трудиться, Но ведь есть это
счастье поныне – помнить всё так
подробно и точно, Февраль 2014 *
* *
В. Трое суток в поезде
скрипучем, Верю, что не зря себя
я мучил: Ел, и пил, и спал на
верхней полке, трое суток длились
разговоры. Красные пески ещё не
смолкли, не назад к привычному
притворству прошлое мучительно и
просто, Верю – невозможное
возможно, Поезд заползает
осторожно Движется вагонное
окошко, Вот и ты – смущённая
немножко, Я в пути мечтал, что
жизнь иная Февраль 2014 РЕКА Она не Волга, не Дунай
и не легенда вроде Тибра, Не глубока и не мелка,
быстра и в меру полноводна, По берегам её видны
луга, селения и рощи, Из областных – всего
один, солидный,
но не высшей пробы, Ну разве что два-три
моста, речной вокзал у областного – и снова рощи и луга, и
города и сёла снова. И днём, и ночью плеск
волны доносится, меня тревожа. Подобная десяткам рек
– и ни с одной из них не схожа. А жителей окрестных
мест
нисколько не волнует сходство: А впрочем, что есть
красота, поэтов давняя забота? Необъяснимое вполне,
неосязаемое что-то. Пусть о тебе не
говорят, пусть сочиняют что угодно – незнаменитая река,
теки по-прежнему свободно! Март 2014 БАЛЛАДА О ВРЕМЕНИ Он родился в
шестьдесят втором. В девяностом назревал
погром, Но остались выдержка и
злость – в бизнесе находка,
между прочим. Шла удача десять лет
подряд. Стал он основательно
богат. Чтобы отдых мыслям
дать и нервам, дом, сгоревший в
давнем сорок первом. Это дело стоило
трудов: был рисунок, больше
ничего; Дом построен – дом, а
не дворец. Со слезами на глазах
отец Через месяц въехали.
Живут. Оказался не напрасен
труд: Тут бы поживать да
наживать, Как-то ночью появился
дед, Не во сне пришёл, а
наяву; Только небольшие дни
прошли – всех перебудив, за ним
пришли Обыскали; что-то там
найдя, Через месяц бабушка
пришла, и людей слова её
прожгли: – Зря вы в ваше
прошлое пришли – может
быть, отсюда нет возврата! …Дом стоит уже с
десяток лет. Каждый день какой-то
старый след И, похоже, бабушка
права – тут
свои у времени права: Март 2014 *
* * Удача это или же беда, Автобус номер
восемьдесят девять Поездка начиналась
ясным днём, Под шинами его стучат
мосты, Лишь фонарей желточная
возгонка Автобус полон. Тесно у
дверей, И полное молчанье. Ни
словца Не по себе безвинно
виноватым. Ни у кого не
разглядеть лица. Зачем же я уподобляюсь
им, А если выйти и пойти
пешком, Так несуразно выглядят
походы И всё же выхожу, помяв
бока А где-то там пустыня
внемлет Богу. И цель моя безмерно
далека. Март 2014 ВАСИЛИЙ ГРОССМАН И книги, и заботы
тяжких дней А тут ещё и громадьё
державы Ей надобны послушные
рабы, Но вызревала мощь
сопротивленья Содружество таланта и
труда в
горячей магме под земной корою Разлом коры – и на
века гранит Март 2014
Он врач и знает со
студенческой скамьи, Влияет всё – и
атмосферные пучины, Купанье в море,
насморк, жареный миндаль вот совпаденья для
смертельной аллергии, Мы ищем там
один-единственный ответ, Порой находим – в это
время, в этом месте, – а рядом с нами
бесконечный белый свет. Пока мы видим лишь
доступное для глаз, Март 2014 В СВОЕЙ КОМПАНИИ Пожилой отец и
школьница-дочь мы видим их со спины. Казалось, ничто им не
может помочь – все улики против на
этот раз, – и вот они спасены. Стволы деревьев с
обеих сторон Это мастер снимал,
потому что он А вначале отец
пустился в бега, ФБР легко обнаружил
врага, Осталась дочь. Он ей
позвонил. Его засекли. В
наручники взят. К финалу сюжет притих. Этот фильм пожилой
режиссёр сочинил, Когда проживёшь семь
десятков лет, и чтобы долго не
вспыхивал свет, Апрель 2014 ЮРИЙ КАЗАКОВ Ручьи, тропинки,
пустоши, леса, как будто вся страна
заговорила, Платформы, полустанки,
поезда во всём был звук, был
запах, вкус и цвет, И люди шли к укромному
костру. И свечечки дрожали на
ветру. Апрель 2014 ПАМЯТИ РЭЯ БРЭДБЕРИ Нет, не казался с виду
он душевно раненым – наоборот, красив,
богат и в гуще дел. Но сам себе он
представлялся марсианином: Людей он знал – и на
земле, и в космос двигая: А сам себя он
представлял сожжённой книгою – ушедший в лес её
запомнил наизусть. Он был пророком,
колдуном, но не обманщиком – он никогда не заступал
за ту черту, – Апрель 2014 *
* * Хорошо после речи
недлинной, – где, когда – а не всё
ли равно? – чёрной горько-солёной
маслиной А ведь скажешь
всего-то по сути, Многословье поможет
едва ли, Жизнь обычно скупа и
сурова, Потому резонирует
слово Глаз острей при свече
стеаринной, Вслед за кружкой вина
и маслиной Апрель 2014 *
* * Наше время не уходит –
оседает, Толща памяти давно уже
седая, Ил садится, каменеет
постепенно, Сверху медленно уходят
муть и пена, но у дна лишь
нарастает темнота. И сегодня
представление такое: все накопленные с
возрастом года. Что там было, где,
когда и почему – в камне спрятано: ни
сердцу, ни уму. Апрель 2014 ПЛУГ Откопал премудрость
мой старый друг, «Возложивший руку свою
на плуг, Я сижу с клочком
бумаги в руке, Вижу поле и пахаря
вдалеке, Ах, какие давние это
дела – нужно очень много
труда, Потому у пахаря соль
на спине Где пора пахать, много
мест вокруг; И трудись, не жалея
спины и рук, Если взял ты ручку и
белый лист Будь, идя за своей
мечтой потайной, Май 2014 *
* *
В. Набегают волны на
песок, Продвигался медленно
вперёд Пассажирам, в том
числе и нам, – Доплывём? …Доплыли
хоть куда, Помнится с тех пор
тебе и мне: Проявив несвойственную
прыть, где совсем иная
глубина Набегают волны на
песок, видимо, природа
виновата… Май 2014 *
* * Болезни детства – корь
и малярия. Луг на Тянь-Шане –
маков торжество. Отец погиб на фронте.
До поры я Но в школе дрался,
чтоб стереть обиды, Я уезжал.
Накапливались виды А дома – страсти,
киевский футбол, Студенчества восторг и
лихолетье, Сомненья, поражения,
успехи, никак не зарастают эти
вехи, из этих всходов,
замерших на годы, Иные эпизоды – просто
малость, Май 2014 *
* * Нужна тишина, чтобы
молча обдумывать жизнь, Поэтому лучше
намеренно ты откажись Себя защитить
попытайся от рёва турбин, Смотри свои сны или
просто смотри на луну, И если случится тот
мир невзначай обрести Да вот незадача –
дорога потом не видна, Май 2014 КНИГОТОРГОВЦЫ К ним никто не
заходит; наверно, они прогорают и увидишь вполне
обустроенных в книжной пещере. За прилавком сидят в
поворотном компьютерном кресле, Тут полно раритетов на
полках в немыслимой толще, Подешевле получится,
если с подобными вкупе, А они не волнуются,
старых долгов не считают, Ведь пока они тут и
стоят приоткрытые двери, Но последние лавочки
книготорговцы закроют Май 2014 ЛЕТО СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОГО Вот город Ош, и ранний
свет в окошке, Старик на рынке
продаёт лепёшки, И очередь стянулась
небольшая, Я тоже жду, не очень
понимая, Немалый срок в Москве
я жил вполсилы А город Ош всё изменил
немножко, Лепёшка с маслом,
чёрный чай горячий, Май 2014 БАЛЛАДА О НЕНАПИСАННОЙ КНИГЕ
В. Вот история давняя, в
сущности, очень простая. Я был гостем поэта,
принёс ему книгу в подарок. Он читал эту книгу,
негромко и редко листая, И на стол положив,
подытожил: – Хорошая книга, И умно, и добротно, а
всё же не высшая лига, Через год или два
прибыл снова на это же место. Вижу книгу на полке;
подумал: а дай-ка открою. В ней почти не
осталось былого печатного текста, Я поэту сказал: – Что
за странная метаморфоза! Вы могли дописать, да
куда же печать подевалась? Он ответил спокойно: –
Поэзия – это не проза: Если хочешь, возьми,
но не ради единого мига, всё останется в ней,
но внутри она будет живая. Я вернулся домой и
завет скрупулёзно исполнил – в долгий ящик стола
положил с рукописной тетрадкой. И кончавшийся век те
страницы собою заполнил – я заглядывал в них,
потому что сверялся украдкой. Десять лет пролетело,
и книга на свет появилась. Я смотрю на неё, как
на чудо смотрю неземное, Май 2014 *
* *
Приедается всё,
Борис Пастернак Забывается всё, лишь
тебе не дано позабыться, где стою без билета на
задней площадке трамвая, где не я, а родные в
болезнях моих и заботах. Изменяется всё, лишь
тебе не дано измениться, Словно в книге
любимой, твои открываю страницы, Обрывается всё, лишь
тебе не дано оборваться; Я смогу возвратиться –
душа отдохнёт на футболе Май 2014 *
* * Когда рождается гений,
никто не знает об этом, Громче других или
тише, медленней или скорее, пусть не всегда по
крови – по восприятию мира, и рядом с тобою
мудрые, одарённые люди – но ты среди них
единственный,
другого такого не будет! Ты уникален – поэтому
себя не чувствуешь лишним Такое еврейское
счастье досталось тебе на долю – от всех на земле
отличаться,
чтоб выполнить Божью волю А люди призна́ют:
гений!
–
видя
на
то
причины, Июнь 2014 *
* * Лето кончилось как
будто только вчера, и наступили долгие
тихие вечера Дневные заботы
отосланы и улеглись, Настольная лампа,
ручка и белый лист – сиди и пиши всё что
душе угодно. А душе угодно, чтобы
была стена, тишина такая, где
слышится шорох каждый. И чтобы в доме всю
ночь светилось окно Что поделать? Осенний
возраст, глухая ночь – этот жребий обычен и
потому не обиден, В стороне от дорог ты
выстроил свой редут, Ну, а если путники по
случаю набредут Ты полагаешь, они
повернут назад, Но возле дома тобой
посаженный сад, И тишина, и только
звенит родник И если из путников
кто-нибудь в это вник, Июнь 2014 *
* * На далёкие странствия
и на долгие сроки В них пространство
просторное не находит границы, Свадьбы, смерти,
рождения, горьких судеб уроки Строчка сильно
нагружена, а гляди – не провисла: то, что в нас
удивление и восторг вызывает, Мы критичны при
чтении, мы насуплено строги, потаённая музыка о
судьбе говорит нам. О себе сокровенное
что-то знаем отныне, Июнь 2014 САД КАМНЕЙ
Александру Воронелю Нет на земле ни травы,
ни деревьев,
а только камни на ней. Хитро́
уложены
эти
камни
в
японском
Саду
Камней. Пятнадцать камней
составляют систему, но молва говорит:
а
пятнадцатый скрыт.
Откуда ни посмотреть
на камни,
приходится подтверждать – видны из них
четырнадцать только, а одного не видать. Мудрец-философ
придумал это, словно оставил знак: Сколько её бы ни
изучали, а не узнаем всего, Затем и нужна свобода
воли – за нас не решит никто, Труден поиск в такой
системе её оптимальных корней – вот и припомнилась
древняя мудрость
в японском Саду Камней. Должна многофакторная
система сделать дальнейший шаг, Но всё же решаюсь –
интуитивно движенье моей руки, Июнь 2014 ПРОЕКТ
XXI ВЕКА Завозят цемент
первоклассный, высшей марки цемент, Доставлена арматура –
лучшей закалки сталь: Готовы стальные двери
и в них номерные замки – их открыть не сумеет
медвежатник средней руки. Готовы особые окна:
они пропускают свет, И электронные чипы
будут в каждой стене И лёгкие видеокамеры
тайно будут висеть, И все эти
приготовления преследуют цель одну – срочно модернизировать
«Матросскую Тишину». Июнь 2014 *
* * В вагоне ночного
поезда – единственный пассажир. На нём худая шинелька,
под ней служебный мундир. Домой он едет с
работы, когда уже спят везде, Скрипит вагонишко
ветхий, за окнами ни огня, Ветер заносит в окошко
пыль и дорожную гарь. Над полусгнившей
платформой полуслепой фонарь. От этого полустанка в
двух километрах дом. Усталый и полуспящий,
он шагает с трудом. Изредка тьму разрезает
фонарика острый луч. На крыльце под
наличником привычно находит ключ. Входит. Шинель
снимает. В кухне включает свет. Сумку с нехитрой
поклажей ставит на табурет. Ест и пьёт что
придётся. И наступает пора, Настольная лампа.
Бумага. Очинены карандаши. До самого до рассвета
теперь сиди и пиши, Пускай занятие это
возвышенно и смешно, Пиши теперь до
рассвета, а на рассвете усни. Июнь 2014 *
* * На стенке Кронгауз и
Ревич – два фотопортрета, Кронгауз твердил, и
слова его были железны: – Готовые блоки в
строительстве только полезны, А Ревич не раз и не
дважды напомнил об этом: – Когда сочиняешь – ты
к Богу идёшь за советом; На стенке Кронгауз и
Ревич – два фотопортрета; Негромок мой голос, но
верю в своё назначенье; ведь всё сохраняет
Господь, что должно сохраниться. Июнь 2014 ВОСПОМИНАНИЕ О ПИТЕРЕ
В. Был снег, мороз, на
ветках толстый иней, от этого кружилась
голова, – и музыка плыла на
верхней ноте, И каждое гостиничное
утро А музыка удачу
обещала, А вечерами в желтизне
метельной знакомые, но в новом
развороте, – и я опять записывал в
блокноте Был знак любви на
уровне намёка – в спектакле БДТ, в
портрете Блока как первые касанья нас
будили и уходили, но оставив
след… Июль 2014 *
* * Вьётся сна затейливая
нить – рассказать я долго не
решался: Покупал я белую фасоль В общем, от прилавка и
весов Мысль, что мама в
Киеве не спит, Шарю по карманам
впопыхах вижу, что держу в
своих руках Я причин тому не
нахожу, капли крови оставляет
палец. И тогда решил я, что
дойду: Подмосковье, Киев –
это рядом. Лезу на высокую гряду, Сверху по гряде идёт
трамвай Сам себе талдычу: – Не
зевай, А в трамвае ругань,
теснота, Он идёт, я слышу, до
моста, Как же это промахнулся
я? Что мне делать – на
ходу не выйти! В сон мой добавляет
колея Надо выйти! Цель
осознаю Быть на ней уже
случилось мне, Этот взгляд, понятно,
не сказал это неприкаянность моя Сон, конечно, – полный
произвол; Землю я на старости
обрёл, Июль 2014 *
* * Растрачиваем запас Одни оставляют нас, Дорога идёт меж скал и то, что на ней
искал, Понятен не каждый
знак, Над пропастью – без
перил, Приемля волю Творца, теперь уже до конца заведомо одинок. Июль 2014 *
* * Империя всё ещё
самая-самая сильная,
чем где бы то ни было, Но в землях соседних
давно уже варится варево, и запах его постепенно
заполнил империю: живут у границ и,
похоже, стремятся к доверию. Доверие – славная вещь
и достаточно нужная, В империи зреет идея
совсем не коварная: Империя спит в
ожидании шага последнего. Июль 2014 АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ Был – по легенде –
дворником в Москве, А что в его творилось
голове, Замах титана человеку
дан, Легко словами мир
заворожить, Писал по-русски. Но к
земле приник Июль 2014 *
* * Это окно ночного,
почти пустого трамвая: Жёлтые пятна, там, за
окном, проплывая, Я привыкаю к подвохам
тряски вагонной, я привыкаю к тому, что
мир заоконный Мой портрет сминается,
рвётся на части окружающий мир в
моих ощущениях дан.
Его воспринять реально
требуется сноровка; тут водитель объявит:
– Конечная остановка! Июль 2014 ОРѲОГРАФIЯ Это старая книга
по-русски – твёрдый знак в
окончаниях слов, Поначалу читать
трудновато:
Но потом замечаешь глубины:
Кто-то скажет – разъятие тени,
Ѣдкій
сокъ ядовитыхъ растеній
на сознание давит сильней.
Но, увы, грамотей вне почёта,
А ведь чтение – тоже работа;
Август 2014 СМЕШАННЫЙ ЛЕС
В. Смешанный лес – не
дубовая роща, Он победнее, и
выглядит проще, Но углубишься в его
светотени, скромные лики знакомых
растений Взгорок окрасится
россыпью ягод, Может быть, на день, а
может быть, на год Двигаться будешь
неспешно и чутко, тихо-прозрачный напев
родника. Смешанный лес – не
таёжная чаща, Можно встречаться то
реже, то чаще – смешанный лес не
запомнит обид. Души людские всегда
беспокоя это и время, и место
такое, Август 2014 *
* * Вовсе не надо быть
проницательным или хитрым А просто кто-то
рождается с таким особенным фильтром Он может быть погружён
в заботы вполне бытовые, но вот какое-то слово
он слышит, словно впервые, И от этого слова, как
от семечка в грунте, Два слова – два
ударенья – это начало ритма; Слова образуют строки,
строки текст образуют; Вряд ли эти стихи
кого-нибудь образумят, Может быть, поначалу
себя ощутит неловко Но чтоб уточнить
дорогу, надобна остановка. Чтобы жизнь уточнить,
надобно удивленье. Август 2014 *
* * Человек не родится
учёным, пророком, поэтом: от условий зависит, от
детства, от случая даже. Человек не родится
пророком, поэтом, учёным: Человек не родится
поэтом, учёным, пророком, Август 2014 *
* * Чтобы выжить, работает
схема простая: Люди тоже сбиваются в
стайные группы; но для стайных задача
проста и легка: Что же делаю я, не
вписавшийся в стаю? Я отдельно – я лишь
перед Богом в ответе; Я стараюсь понять, и
не нравятся мне Единичная особь должна
разобраться: Слава Богу, ещё не
последний звонок, Август 2014 ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРИЧАЛУ Я вернулся в край
заповедный, А прошли немалые
сроки; Я стою, удручённый
малость: нет ограды и нет
настила, А река как воды
катила, Где в душе мечта
улыбалась, Сваи сгнили, торчат
неровно; увели их люди лихие, Остальное – дело
стихии, населенье уснуло
словно, На округу гляжу
устало, для души, без того
печальной, И стою на доске
причальной, то, что было, и то,
что стало, Август 2014 *
* * Через дорогу – частное
владенье: А сам участок, под
крутым уклоном Свой прочный дом,
покой и вдохновенье, Живи, используй каждое
мгновенье ещё бы только не
мешали жить!.. Сентябрь 2014 *
* * Любимая забава
писателей-фантастов: Герой, попавший,
скажем, в салон аристократа, А персонаж – историк,
недурно образован И всё же для прокола
немало есть резонов: С десятком лиц
известных он помнит, что случится, Реальность непохожа на
книжные страницы, Под грузом разночтений
немудрено прогнуться, Да, человек не может.
А целая страна? Сентябрь 2014 *
* *
В. Уроки выживания
чему-то научили, Ну, повезло,
случается; по существу не споря, Случился двадцать лет
назад наш городок у моря, Но сдёрнуть скатерть
со стола со всей на ней посудой, Душа, характер, труд –
и что, пускаться в пересуды? Мы просто так
устроены, что повезёт опять! Сентябрь 2014 *
* * Он был драматургом,
актёром, певцом, режиссёром кино; но он оснастил
водевильчик таким искромётным стихом, Ещё он писал
натюрморты, ещё занимался резьбой Имел репутацию сноба,
ценителя марочных вин; Потом он внезапно
скончался не старым и не молодым; Лицо промелькнёт на
Ю-Тьюбе –
случайный
компьютерный клик, – и кто-то процедит
небрежно: – А чё, даровитый мужик! Людей даровитых –
десятки, и сотни, и тысячи, но… И где-то висят
натюрморты. И где-то пылится резьба. Он жил, как судьба
повелела. А только одна ли судьба? Сентябрь 2014 СТИХОСЛОЖЕНИЕ Тревожный звук –
откуда, не пойму, Но надобно сперва
определить А улица, лежанка или
кресло – неважно, где звучание
продлить, проверить, что мелодия
права. И слово к слову мягко
подвести, как две недальних
клавиши рояля, и общий звук смогли
произвести. Так шаг за шагом – где
уж тут покой! – идя, сверяться
вдумчиво с истоком, И не бояться слов
совсем простых, и лишь тогда заняться
оркестровкой, И, от себя сомнений не
тая, Сентябрь 2014 *
* * Я не тот, что вчера,
ибо что-то во мне изменилось; Мне довольно того, что
давно уже мама не снилась, Мир стремительно нов,
и, как прежде, болеть за «Динамо» В европейских столицах
зелёная краска ислама В мире этом приходится
хочешь не хочешь меняться; За каким-то жлобом, но
с айподом в руках, не угнаться, Остаётся держаться за
вещи, знакомые с детства, – Осознанье судьбы
никогда не приходит случайно – это трудный итог,
многолетний, дневной и ночной. Я не тот, что вчера, –
и я тот же, что был изначально: Сентябрь 2014 *
* *
Я вспомнил города, которых больше нет…
Арсений Тарковский Мне снятся города,
которых больше нет, а без меня никто те
улицы не сыщет Мне снятся города, что
смолкли навсегда – в концертных залах их
не услыхать ни ноты, На месте этих мест
Везувий жизни лих: лишь снятся города,
которых больше нет. Октябрь 2014 СТЕНА Поэма
В. 1. Были очень жители
города объявленьем удивлены: Да нужны не просто с
лопатами те, кто в этом деле умел, Город старый, но весь
разведанный,
весь пройдённый за слоем слой. Что ж ещё учёным
неведомо из того, что не под землёй? Но недолго выглядел
тайною и характер, и фронт работ: Из молвы сложилась
история, не казавшаяся враньём, как людские судьбы
рельефами на металле стали видны, 2. Жили-были он и она –
художники по призванью, Вместе окончили
институт; срывая догмы коросту,
на заполярный остров. Мир был красочен и
велик, таинствен, красив без меры… Вернулись домой.
Рисовали для книг,
расписывали интерьеры. Холсты их были весьма
хороши, но всё им казалось мало: Были проекты:
автовокзал, большой пионерский комплекс… Однажды им архитектор
сказал, что объявляется конкурс
должен быть крематорий;
в Парк Памяти превратиться. Жизнь и смерть, судьба
и война, объёмы, линии, пятна… Так впервые возникла
Стена в замысле непонятном. 3. Двести тринадцать
метров. Полных тринадцать лет. Медленно вызревает
крематорский сюжет. В спорах и
соглашениях, вдвоём и наедине – семь лет из этих
тринадцати отданы были Стене. Нет на земле
бессмертия, не нужно об этом врать – каждому человеку
приходит час умирать. Тяжек обряд прощания
для остающихся жить. А ежели вдоль дороги
фигуры расположить, Любовь, материнство,
детство, труд, болезни, война, всем проявлениям
жизни, наверное, нет числа, – и рядом с каждым
возникнет смерть, что его унесла. И пониманье забрезжит,
что это единый поток; 4. Стена идёт вдоль
водоёма и отражается в воде. Семью почти не видят
дома, они живут в своём труде. Стена из железобетона
– опора для тяжёлых масс,
стальной извивистый каркас. И постепенно обрастала
Стена фигурами людей: и каждый лист своим
рельефом,
что был похож на вымах крыл, Но с остальными на
каркасе он позволял найти предел – свод всевозможных
ипостасей живых фигур и мёртвых тел. …Прошёл – а
впечатленье длится,
как будто нет конца Стене: У крематорского порога
со всеми вместе я пойму, 5. Произошло немыслимое
что-то, День наступил, и
принимать работу Ему-то ни к чему идти
в потоке, И что ему истории
уроки? Он бог и царь, он
время поучает – его немногословный
баритон – Закон вам нужен? Это
я – закон! Вы думали, я стану
здесь молиться Я вижу на стене чужие
лица Сел в лимузин и не
простившись двинул; тут не помогут ни
песок, ни глина; Чтоб разрушать, таких
всегда немало; в атаку на искусство
поползли. 6. Десять лет несмирения.
Двадцать лет ожиданья. Никакими сравненьями
не опишешь страданья. Жить не хочется, ежели
не поверить надежде, Вот придут археологи с
инструментом, терпеньем с виду неподдающейся
оболочки бетона. Нет на свете
бессмертия, но и нет матерьяла, Примитивны орудия –
молоток и зубило, . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ах, царица-фантазия!
Завлечёт и заманит, Современникам дела нет
до вчерашних историй: Вы своё объявление
опрометчиво дали, 7. А почему бы нам не
помечтать, И эту веху назовут
Стена, Она повторно будет
создана Внимательный
компьютерный расчёт А мощный лазер
воспроизведёт И то, о чём никто и не
мечтал сверхпрочный
синтетический металл И всё ж чего-то будет
не хватать – так скажет
скрупулёзная проверка лет через двадцать или
двадцать пять, И лишь тогда свой
возродит заряд В рельефах этих,
правды не тая, «Бог сохраняет всё», –
сказал поэт, Он Стену тоже сохранит
как след Она войдёт в привычный
обиход, Октябрь 2014 ОТАРА Овчар ведёт отару
неспешною тропой – на пастбище сначала,
потом на водопой, – а впереди отары козёл
идёт всегда:
Отара растянулась,
отстанут – не найти, Никто не замечает в
сторонке овчара. Куда идти отаре,
решает он один, Когда он принимает
свой блеющий парад, Овчар ведёт отару
неспешною тропой – сперва ведёт на
стрижку, а после на убой. Октябрь 2014 *
* * Не часто умирают на
реке Он смотрит в
приоткрытое окно: всё, что теперь ему
отведено А в памяти всплывают
города – и те, где быть
случалось иногда, и те, где жил он
многие года, И ловит он себя на том
сейчас, А ежели пройти за
первый слой, А здесь дышать –
отрада день-деньской, и он плывёт и
чувствует покой, А за окном вечерняя
заря; Октябрь 2014 *
* *
В. Бывает же порой такая
благодать! Угодно без причин
расщедриться природе – обычный шум ветвей с
обрывками мелодий Два дерева стоят,
открытые ветрам, То жёлтый жар пустынь
приносит суховей, Два дерева ведут
мелодию свою Они уже совсем
переплелись ветвями Ноябрь 2014 ВАХТА
В. Полярный мыс, у мыса –
островок И если даже запасёшься
впрок, Рутина измерений
каждый день, Никто не спросит: лень
тебе, не лень? И чем ты занят вне
рутины той? И наизусть привычный
окоём. И наизусть привычный
разговор. И круглый день, и
круглый год – вдвоём, И постепенно для
дневных обид. И постепенно для
ночной тоски. Но если только это
зазнобит, И переждать минуту или
две, Как будто провидением
ведом, По точкам ежемесячный
обход, и гости три-четыре
раза в год И нет охоты к перемене
мест От островка на мыс
прямой маршрут, И всё ж они отсюда не
уйдут, Ноябрь 2014 *
* * Угольный запах старых
вокзальных путей, Игры-забавы
послевоенных детей – кто-то кричит: –
Братва, айда на Товарку! А на Товарке для нас
что ни день – чудеса: – Это не трогать! –
охраны звучат голоса, Мимо депо, где застыл
паровоз-исполин, Всё уносилось нами в
домашний запас –
в игры-забавы,
коллекции, фонды обмена… Мамы и папы порою
пороли нас – мы убегали сызнова и
непременно. Там, на Товарке,
приметы жизни другой, не серый асфальт, а
гудящий рельс под ногой, Он до сих пор отчётлив
и не забыт, Целая жизнь: богатства
– и скудный быт, целая жизнь: серый
асфальт – и Товарка!.. Ноябрь 2014 *
* * Какой оглушительный
ливень, А связки – из ломаных
линий, А далее на две недели Глаза бы мои не
глядели И правда, в окне
пустовато, Ну, ладно – не всё же
красо́ты,
– Дождливые дни – это
соты, Ноябрь 2014 *
* * По привычке мы всё ещё
пишем, а ведь сами не
очень-то слышим Слабовато звучим,
глуховато, А с годами она всё
плотнее – вот уже и вдыхаем со
стоном, Впрочем, слышится –
редко, но всё же! – полнозвучно, просторно
и внятно мы не знали, кто он и
откуда, да и знать не желаем
поныне. А ведь это – реальное
чудо, Декабрь 2014 *
* * Каждый прожитый год
прибавляет своих впечатлений – первым делом, потерь,
недородов и недомоганий,
всё
трудней и поганей. Каждый прожитый год –
это опыт, который не учит, а дорога с подъёмом
становится попросту круче Каждый прожитый год,
тем не менее, дарит удачи – в ежедневном труде и
нежданные, как откровенья, Даже нет, не лицо –
ощущенье прицельного взгляда,
справедливый, и мудрый, и строгий. Остаётся тебе
пониманье себя как награда: Декабрь 2014 *
* * Я прожил день из
разных дел Гарантом качества
работ, Никто меня не понукал, на мною выбранный
накал Да, я устал к исходу
дня, А я работать
продолжал, Хотел бы я, чтоб
круглый год чтобы свобода из
свобод Тогда что хочешь
назначай, и всё вершить не лень! Но так бывает
невзначай, Декабрь 2014 *
* *
В. Наше земное богатство
– только ли стол и
кровать? Было нам чем
восторгаться, Были рабочие ритмы, Было о чём говорить
нам, Для сохраненья
традиций Было над чем
потрудиться, Жизнь хоть трудна, а
награда: Было, что помнить не
надо. Есть что запомнить
навек. Пройденный путь за
плечами – словно короткая прядь. Есть что терять на
прощанье. Боже мой, есть что
терять!.. Декабрь 2014 ПРОРОК ИЗ ОСТРОГА Поэма 1. Не пикник на обочине –
просто лесная полоска, Постояли – и хватит. И
катится снова повозка; Не общаясь ни с кем,
неприветлив седок осторожный, Государственный кошт и
приказ при такой подорожной: все по струнке стоят,
и в глазах обязательный страх. На Урал, за Урал и к
Чите от Иркутска с разбега, нужно срочно на месте
найти одного человека Александру Второму
доложено было в секрете, был рассказчиком баек
и слыл толкователем снов. В протоколах допросов
на выбор придирчиво роясь, и сказал допросителю:
– Дурья твоя голова! Этот Ду́бнов
… Дубно́в
… кто таков? Отвечай поскорее! – Из мещан…
образованный – многие книги читал. Православный, а с виду
так очень похож на еврея… Нам про тайну поведал,
а в суть углубляться не стал. Мы Леонтий Василича*
сразу же оповестили Он сердито сказал,
чтоб не тратили лишних усилий, Новый царь, новый шеф
по-иному восприняли это: И немедля послали
гонца в золотых эполетах, 2. Путь обратно – втроём:
из острога приставлен охранник. Сняли с узника цепи;
помыв, приодели чуток. Каждый день дотемна от
часов неоправданно ранних Всё леса да леса, а
дороги почти что пустые; Необъятно огромна,
почти бесконечна Россия, День проходит за днём,
и молчать невозможно в дороге, О присутственной
службе, о трудностях быта в остроге, – Были темы случайны,
вопросы почти что случайны, Добрались до Перми, не
поддавшись крутым непогодам, 3. – Ну, давай, открывай
то, что скрыл от суда почему-то! – Я скажу, Государь, я
открою, хотя и боюсь… Вас убьют, Государь, и
начнётся жестокая смута, Власть к таким
перейдёт, для кого ни царя нет, ни Бога; Наша жизнь, Государь,
и сегодня довольно убога, – Что ты, умник,
несёшь? Рассуди-ка своей головою – для
чего бы каким-то злодеям меня убивать? Я готовлю указ, всем
крестьянам дарующий волю, – Государь, я прошу –
не доверьтесь вы этому слишком: А мужик безземельный
пойдёт её брать с топоришком – будут храмы в руинах и
будут жилища в золе. Все восстанут на всех!
А когда успокоится смута, нужно есть, нужно
пить,
стало быть, подчиняться кому-то, – то на вашем престоле
воссядет особый тиран. Чтобы снова державу
держать в подчинении строгом – а она лишь недавно
была, как сорвавшись с цепи, – всю страну он покроет
немыслимой сетью острогов: Государь, вы даруете
волю своею рукою, 4. Царь сказал: – Хорошо,
что я вынул тебя из острога. Говорил ты речисто и
был откровенен со мной. Но чего бы я стоил,
поверив тебе хоть немного? Ты, Дубнов, не
преступник – ты просто душевно больной! И продолжил своё,
обращаясь к Тима́шеву**
строго: – Ты найди для Дубнова
хороших и добрых врачей. А досужим легендам
давай перекроем дорогу – нос газетно-журнальный
пускай не суётся ничей! И опять при гонце
находился Дубнов, ожидая очень сходная доля, уж
ближе никак не найти! Поначалу казалось, что
не понуждают лечиться – впечатление было, что
вольную он получил. Но потом как-то резко
свезён был в Самару, в больницу, Врач Дубнова послушал,
похоже, остался доволен но могу поручиться,
что болен не больше, чем я. То, о чём говорит он,
не время сейчас и не место Это он записал как
ремарку себе – по-немецки, И лечил, как умел, и
твердил ежедневно больному, А больной отвечал, что
ведь можно взглянуть по-иному: – Вот представьте,
профессор, –
кого-то назначено высечь; А теперь вы
представьте назначенных множество тысяч: 5. Каждый вечер профессор
записывал речи безумца Дни неспешно проходят,
а годы при этом несутся, Аккуратные
немцы-наследники всё сохранили, В Бранденбургском
архиве была она как бы в запасе; Человек, изучавший
немецко-российские связи, А когда прочитал
поначалу невнятные строки – прочитал и,
вчитавшись, почувствовал их глубину, – понял: дело идёт о
взаправдашнем русском пророке, И статья появилась в
одном специальном журнале И в немногих газетах
потом заголовки мелькали, резонанса не вызвав.
Но это ещё не итог. По архивам России
устроили поиск суровый, В девятнадцатом веке
не найдено было Дубнова, Декабрь 2014
_______________________________________
*) Дубельт Леонтий
Васильевич (1792-1862) – начальник штаба Корпуса жандармов в 1835-1856
гг. **) Тимашев Александр
Егорович (1818-1893) – начальник штаба Корпуса жандармов в 1856-1861 гг. *
* * Никуда мне не деться
от прошлого – мой характер о том
говорит, Ничего не скажу про
грядущее – как и все, я не знаю
его. Ощутимо лишь время
идущее, Ощутимо оно –
настоящее, не условное, а
настоящее Настоящее – значит,
свободное: А свободное – небу
угодное, Декабрь 2014
БАЛЛАДА О ДВУХ
ДОМАХ
Дом стоял в
серёдке города большого,
Там же жили
предки – там была основа
Жил я в этом доме
от рожденья в мае
Говорю, конечно,
лишь о раннем детстве –
во дворе шпанисто,
нищета в квартире, –
всё равно отсюда
никуда не деться:
Надобно
привыкнуть, в доме проживая,
Вот течёт из
крана ржавая водица,
С окруженьем этим
надо бы проститься,
Да ещё и мебель,
что с трудом добыта,
Радуемся малым
улучшеньям быта
Так прошло
полвека. В доме всё прогоркло,
В общем,
безнадёга так взяла за горло,
Трудное решенье,
но зато прямое –
задевая волю,
честь не задевает:
Местность –
сочетанье города с деревней,
Этот дом построен
по эскизам древним
Все мои соседи –
разного достатка,
Их объединяет
некая загадка:
Все в домах
различных жили-поживали,
В той, прошедшей
жизни каждому твердили:
…За окном
февральский ливень яркострелый,
Вот и вся округа
ночью зазвенела:
Январь 2015
*
* *
В.
Два бокала
красного из Негева,
и такой
немногословной негою
Холодно и ветрено
за окнами –
для питья
достаточно причин.
Только
подозрительно умолкли мы,
Там гроза и
ливень круглосуточный,
Молча произносим
тост нешуточный,
суеверно слов не
говоря.
Просим небеса, а
больше некого,
чтобы вместе до
исхода дней
Январь 2015
*
* *
В.
Прожив без малого
восемь десятков лет,
и без перерыва
должен трудиться я,
Но после того,
как была дарована ты,
Январь 2015
*
* *
Когда трезвонит
поздний телефон,
а непечальных не
приносит он.
Другие вести, мир
в душе храня,
А для того, чтоб
к ночи позвонить,
Я в этот час
безбожно одинок.
Был ближний круг
подобьем бастиона –
и есть вопрос в
молчанье телефона:
Январь 2014
ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ СТЕПАНОВИЧА КНАБЕ
Ощущенье такое,
наверное, многим знакомо,
проживавшие в нём
свой подвижный оставили след.
Только след не
простой, не пятно от протечки на крыше,
Затаишься на
время – и мерную поступь услышишь,
И припомнится
сразу, что знаешь о людях и быте;
Там остались
приметы веков, и персон, и событий,
По фасаду
проносятся автомобильные блики,
Мы по дому
пройдём и подобных чудес не заметим –
мы увидим
компьютер и в кухне электроплиту.
Но вошедший до
нас появился в дому не за этим
а в действительность ту.
Настоящее видя,
он видит ещё и былое,
Словно некий
томограф, он слой обнажает за слоем
Он, вошедший до
нас, как и все, к сожаленью, не вечен;
И теперь его нет.
И в шандалах закончатся свечи.
Дом разрушится
сам или стены бульдозер снесёт.
Январь 2015
*
* *
Я за книгу стихов
только раз получил гонорар,
И тогда же я
понял, что книга стихов – не товар,
Детективы,
фантастика, вестерны, женский роман –
вот к чему
интерес и продажи почти без рекламы.
Говорят,
окружающий мир в ощущениях дан;
А читатель поэзии
вряд ли на сотню один,
Постоянно
читающий попросту неисчислим –
я приметил с
десяток за долгие-долгие годы.
Эти люди, должно
быть, не хуже, не лучше других,
Январь 2015
*
* *
Я персонаж
старинной книги:
чем объяснить,
что в наши дни
ношу тяжёлые
вериги?
и плечи мне не
сокрушают,
и даже не всегда
мешают,
но распрямиться
не дают.
И рад бы снять –
ведь нет покоя
И в голове сухое
жженье:
Февраль 2015
*
* *
Бутылка местного
вина,
в просвете улочки
недлинной
и оценить клочок
прекрасной
Февраль 2015
ЧУМАК
Два вола в
упряжке, старая телега –
транспорту такому
явно не до бега.
Не дымятся оси,
не мелькают спицы –
по степной дороге
глупо торопиться.
Но и спать в
дороге не годится тоже;
Тяжела телега,
тяжела поклажа –
на любом базаре
вырастет продажа:
соль нужна
повсюду, бедным и богатым.
А пока он смотрит
на степные дали;
Впереди цветные,
позади белёсы –
пыль не оседает,
где прошли колёса.
Что-то
сохранится, что-то позабыто,
Что-то уплотнится
и в загашник ляжет;
До сих пор об
этом люди вспоминают –
как волы,
вздыхая, жвачку разминают,
Февраль 2015
*
* *
В.
Смотришь в окно в
уснувшем ночном вагоне,
Но нечто странное
изредка происходит,
а в коридоре
вагона нет никого.
Шапка волос,
облик тонкий и нежный,
Как пахарь в
пустыне весной высевает злаки
Февраль 2015
*
* *
Звуки вокзалов и
станций
Поезд – за ним не
угнаться,
Смотришь вдогонку
устало
И возвращаешься к
быту,
Звуки вокзалов
забыты
тонут в акустике
дня.
И просыпаешься
утром,
Февраль 2015
*
* *
Меж половинами
судьбы я вовсе не вбиваю клинья –
мне б только
как-то сохранить, что понял из ушедших лет.
Мои следы на той
земле давно уж поросли полынью,
Я жил как жил и
кем-то был, от жизни получал уроки,
за шестьдесят с
довеском лет изрядный накопил запас.
Иной процедит: –
Баловство! К чему переводить бумагу? –
и в чём-то даже
будет прав: толпа останется глуха.
Но можно
противостоять распаду, хаосу и мраку,
Затем на свете и
живу, хожу по замкнутому кругу,
в котором дактиль
и хорей – вполне достойные дела,
поскольку знаю,
что без них не распахнутся тут крыла.
Февраль 2015
ИМЯ
В честь прадеда я
имя получил,
никто не
объяснил, не научил.
Стесняясь, я его
произносил
Всё продолжалось
в зрелые года –
для размышлений
горькие причины.
Хотел я быть от
всех неотличимым,
Вопрос не
праздный: что мне делать с ним?
А опытные люди
это знали –
при первой
публикации в журнале
А я решил
остаться при своём,
и никогда не
пожалел о том.
Совсем иное
началось житьё
где каждый пятый
– может, чуть пореже, –
на имя
откликается моё.
Я знаю: тут я
свой среди своих,
Я продолжаю
прадеда и деда,
Февраль 2015
В ЛАВКЕ
БУКИНИСТА
Полки-стеллажи до
потолка,
Покупать их мне
ни для чего,
Со стремянки
оглядеть ряды
словно цепь
воздушных перелётов
Я на книгах вырос
и созрел:
В мире две
реальности живут:
Но в живой себя
осознавая,
Мне бы в этой
лавке вековать
Но кому ухаживать
за полем,
Ах, как славно в
лавке букиниста,
Значит, никаких
не нужно ниш,
мир живой и
книжный мир в единый
Февраль 2015
НОЧЬЮ ПОСЛЕ ГРОЗЫ Отголоски небесного
гнева Не дано мне трудиться
для неба, Меж покинутых строек и
грядок В приходящих ко мне
сообщеньях о голодных, о
людях-мишенях, А в словах, от меня
уходящих, – о сидящих в ночи у
костра Не сказать, что слова
равноценны: Но и те, что спокойны и
строги, подвести позволяют
итоги И дают ощущенье удачи, Февраль 2015
ОСЕННЕЕ
Урожай мой
полуторка сразу свезла бы
Я в подводе с
лошадкой несильной-неслабой
потому что в пути
некоротком-недлинном
небосвод с
журавлиным замедленным клином,
Я запомню всё
это, душе угрожая
Март 2015
*
* *
Звуки любой
тональности, краски любого цвета –
музыка без
мелодии, живопись без предмета;
всё это обретения
отошедшего века,
Искусство стало
игрою: кто придумает позанятней?
Искусство стало
подобием инженерных занятий.
На помощь пришли
компьютеры с почтой и с интернетом:
Всегда найдутся
приспешники, всегда найдутся клевреты,
несогласный, иди
доказывай, что не подобен верблюду!
Кто за старое
держится, тем не выйдет награды –
их зовут
«консерваторы», их зовут «ретрограды»,
Но минут
десятилетия, дым сражений осядет,
Проржавеют
давнишние бомбы, мины, снаряды,
Март 2015
НА ИСХОДЕ
На исходе ночи
лежу, от себя гоня
будто я находился
в доме, где всё знакомо,
На исходе субботы
у остановки стою,
На исходе зимы
вдруг ощущаю испуг:
сколько хватает
взгляда, зима продолжается эта.
На исходе года
столб верстовой возник,
этот – слегка
увядший, но чистый и благородный.
Так вот и
вспоминаю – то день, то месяц, то год –
на исходе жизни,
в которой случился Исход.
Наверно, жизнь
удалась и стала Богу угодной,
Март 2015
*
* *
Он был плотогоном
в какое-то давнее лето,
И сколько там
пройдено было, и сколько пропето,
Просторна река и
спокойна, и дело простое –
плыви на плоту,
направляясь в низовья на склад.
Бригада в
верховьях нашла полосу сухостоя –
знай рубит и
вяжет с неспешным течением в лад.
Плыви и плыви,
костерок по пути разжигая, –
неделя туда, а
назад пароходик везёт.
И люди другие
вокруг, и природа другая,
А пуще неделя,
когда ты плывёшь одиноко
Не нужно хлестать
и не нужно натягивать вожжи –
плыви и плыви,
удивляйся, смотри в темноту…
Ты воли такой не
изведал ни раньше, ни позже,
Свобода –
условность: нужда подчиняться законам,
Но помнится лето,
в котором он был плотогоном,
Март 2015
*
* *
По
железнодорожной колее
Вот и проходишь
просто по земле,
Да, колея понятна
и проста
По ней давно не
ходят поезда,
Тогда людей со
всей страны везли
А я пошёл от
насыпи вдали,
Да, ошибался,
падал и кружил,
но не чужое, а
своё прожил,
И вот, прошедшим
дням теряя счёт,
Март 2015
ДАВИД
Я был царём и
создавал псалмы.
Я знал, что
значит царское начало,
Ведь власть сама
собою не свята –
она свята, когда
даётся Богом:
И с ней даётся
право одному
А все свои печали
и сомненья
чтоб люди это
пели вслед за мной,
Март 2015
*
* *
Я пыльную бурю по
тонкому посвисту слышу;
Горячее небо я
чувствую даже сквозь крышу,
горячую землю я
чувствую даже сквозь обувь.
Трёхдневный
хамсин, и на окнах налёт желтоватый,
и дышится так,
словно ноздри заполнены ватой,
Не очень привычны
к явленьям подобного рода,
С умеренным летом
встречались мы в странах исхода,
А здесь оно
тянется месяцев семь или восемь,
Но пыльные бури,
и просто жара, и хамсины
Живём, изменяемся
мало, сомнений не прячем,
в горячую землю
уйдём, и под небом горячим
Март 2015
*
* *
Я опоздал. Мне страшно. Это сон.
Отсюда не отходят
поезда,
В глубокой тьме
неразличим вокзал,
и тут я понимаю:
опоздал!
Все близкие
уехали давно,
и только мне,
увы, не суждено.
Стою на
перекрёстке трёх дорог,
В стране, где
жизнь уже не возродится,
Что стану делать
в этой пустоте
пить водку?
мародёрствовать в жилищах?
Или уйду, оставив
на листе
А впрочем, я
напрасно протестую,
когда и приговор
произнесён
Апрель 2015
ДИПТИХ О ДОМЕ
1.
Живите в доме – и не рухнет дом.
Арсений Тарковский
Оно, конечно,
так, но не совсем:
А если плесень
чёрная в подвалах
А если кто-то
крышу не докрыл
А если в окнах
выбитые стёкла
А если из бачков
журчит вода
А если в нём
живущие с трудом
и протрезветь
никто уже не хочет, –
кто поручится,
что не рухнет дом?
Дом был высок,
просторен и красив,
2.
Дом без жильцов –
не дом, а призрак дома:
никто не
предпочтёт его другому,
В нём надобно
пожить хотя б недолго,
а в самом деле
ощутить родство.
С жильцами дом –
совсем другое дело:
Всё починили,
заново покрасив;
дочь вышла замуж,
сын в последнем классе
Дом доставляет
новые заботы,
А если,
провидением ведома,
Апрель 2015
*
* *
Далеко моя юность
– и близко:
Эти песни меня
понимали,
Песни были
просты, неспесивы,
Пролетели немалые
годы;
пусть давно они
вышли из моды –
до сих пор
предъявляют права
на позицию
верного средства,
и неважно, что
строки иные
а запетые –
просто в клише.
У других
поколений – другое;
А забытые старые
песни
Это вовсе не
мирокрушенье –
всем по нраву
простые решенья:
Диск вращается,
песенка льётся,
Апрель 2015
*
* *
Живу на земле,
постепенно её познавая,
пускай не на
карте, а в деле, в науке, в искусстве,
Живу на земле,
постепенно людей узнавая:
Пусть время
несётся, как поезд, и звучно, и зримо –
они остаются
навечно и неизменимо.
Живу на земле,
постепенно себя сознавая,
словами и рифмами
собственный мир создавая.
Своё назначенье
на старости лет понимаю
Живу на земле, к
небу руки свои воздевая –
душа моя стонет в
тиши, потому что живая,
а если живая, не
может она примириться,
Апрель 2015
МОЯ МОЛИТВА
Если иду я в
сумерках по незнакомой дороге,
Если хочу
сохранить то, что ценилось прежде, –
уменье долго
трудиться не для манящих благ, –
не позволяй мне,
Боже, поддаться ложной надежде,
А если дойду до
цели, которой не вижу ныне,
Май 2015
НА ПРИСТАНИ
Стою на пристани,
у края,
прибился к берегу
листок.
Всё это заурядно
было –
неяркий день,
листок, вода, –
но ведь не зря
его прибило
Там, под
настилом, в полумраке
он без движения
пока,
С настила
медленно спускаюсь,
и знаки на листке
пытаюсь
Похоже, это буквы
были,
нет целой ни
одной строки.
И всё же, через
перегрузки
Сначала вовсе
непонятно,
предполагаю
буквы-пятна,
И вдруг догадка
пробежала,
прочёл – а
строчка не нова:
давно знакомые
слова!
И далее велит
примета
так изначально
было там!
Держу листок в
руке дрожащей,
Стою как будто у
порога,
слова библейского
пророка
В том нет ни
займа, ни хищенья –
в них жизнь
впечатана моя:
Отец, на Мировой
убитый;
гоненья,
подлости, обиды –
полжизни в
перечне обид!
Я много лет на
свете прожил;
Он гнул меня,
ломал, корёжил,
И что же, что
рука дрожала?
Смотрю вперёд, а
не назад!
Смерть, где твоё
гадючье жало,
7 мая 2015 года
*
* *
Стою у
трамвайного круга на площади при вокзале.
Нужный мне номер
трамвая всё никак не идёт.
Справа привычно
вижу градирню теплоцентрали,
После ночи в
вагоне хмуро и зябковато.
Вот, наконец,
трамвай. Вхожу, покупаю билет.
Всё совершенно
так же, как и было когда-то,
Тогда была
Перестройка, недавно рванул Чернобыль,
Вижу всё
укрупнённо, будто смотрю в бинокль;
Но тридцать лет
пролетело, и скажите на милость,
Еду, не замечаю,
чтобы что-нибудь изменилось –
даже улица
Коминтерна зовётся, как и была.
В тех же убогих
домах – убогие магазины,
С пригородных
электричек тётки несут корзины,
Плывут вдоль окон
трамвая стенды в афишах старых:
зато весьма
заметно, что многие на тротуарах
Трамвай
приближается к дому, в котором я жил когда-то,
Этот маршрут
повторяет мои пространства и даты,
За эти годы
многое можно было исправить,
Май 2015
*
* *
Он едет в особом
вагоне, да в общем и поезд особый:
от самого старта
составу зелёную улицу дали.
Его по большой
магистрали ведёт тепловоз крутолобый,
В вагоне спокойно
и чисто, в купе только близкие люди,
На столике стопка
бумаги, коньяк и закуска на блюде –
купе и в особом
вагоне являет особую зону.
Он едет в особом
вагоне, особый успех предвкушая;
подробности будущей встречи:
И будет в речах
утверждаться внушительно, чётко и ясно,
один из немногих живущих,
…Колёса грохочут,
грохочут, гудок басовит и отчётлив,
И нет никаких
предпосылок,
и нет никаких оправданий,
Июнь 2015
*
* *
Фрегат построен,
и одобрен, и обмыт
Уже не плотник,
что прошёл учёбу тут, –
сам император
сходит с трапа,
Конечно, скоро –
век без малого всего,
Да, да, свобода,
но, конечно, не для всех:
и застываешь,
каменея.
Бунт на Дворцовой
усмирён и осуждён,
Вновь век без
малого, и сменится уклад
И хорошо бы
уберечь, не потерять
Россия, Лета,
Лорелея».
Июнь 2015
*
* * Хмурая ночь на земле, В чёрном оконном стекле Есть там, конечно, и
свет – редкие жёлтые пятна. Впрочем, что есть он,
что нет – всё в темноте
непонятно. Ночью загадочным стал Мир непомерно велик, Чтоб разглядеть его
лик, может быть, что-то
пойму, Июнь 2015
*
* *
Крик для
пониманья – дело лишнее,
Если хочешь, чтоб
тебя услышали,
Людям очень важно
успокоиться,
Говори, не
повышая голоса, –
люди постараются
прислушаться.
Все мы чем-то в
жизни приневолены,
Если хочешь,
чтобы люди поняли,
Всё различно –
радости и горести,
Говори, не
повышая голоса, –
пусть не все, но
кто-то остановится.
Июнь 2015
*
* *
В.
Две хорошие
строчки пришли неожиданно ночью;
Но была ведь
причина, ведь было же что-то такое,
то ли звук, то ли
свет, то ли вместе лишили покоя,
Значит, нужно
вернуться в исходную точку на карте
к той
единственной женщине,
в давнем родившейся марте,
В этой точке
сойдутся прозренья, сомнения, сроки,
Июнь 2015
*
* *
В дни хамсинные
дышу я, как ни странно,
Монотонное
гудение мазгана
Вот и снова вижу
горную вершину,
много пройдено и
много предстоит.
Истираются
подмётки на щебёнке:
И шаги мои не
скоры и не звонки –
нужно силы
поберечь для высоты.
И дыханью хорошо
бы не сорваться
У вершины нет ни
лавров, ни оваций –
лишь тропинка для
последнего рывка.
Вот стою на
высоте, и небо сине,
Никого со мною
рядом на вершине,
Июнь 2015
*
* *
Как деревья
живут? Умывают их ранние росы,
И деревья растут.
Их не мучат людские вопросы:
И в назначенный
срок начинается чудо цветенья,
И естественный
свет сочетая с естественной тенью,
А потом упадают
плоды, улетают крылатки,
Наступает период,
всегда относительно краткий, –
спят деревья
зимой, выполняя закон естества.
У извечного цикла
в конце или в самом начале,
неизвестно
деревьям, поэтому нет им печали;
Июнь 2015
*
* *
Он пытался
вымолвить какие-то слова,
Врач из неотложки
разобрал едва
Но были свидетели
действительно должны
Каждый и придумал
то, что захотел,
Конечно, в разных
версиях было про народ,
Что на самом
деле, кто там разберёт,
Лишь себе он
скажет: всё тебе не лень –
к чему-то
стремишься, пыжишься, корячишься,
Июнь 2015
*
* *
Словно был создан
смертельного вируса штамм –
вот и пошли
гекатомбы смертей по планете…
Глиняной жизнью
свой век называл Мандельштам,
Значит, подспудно
провидел такой оборот,
Значит, провидел,
конкретных не ведая дат,
Мы представляем,
что нынче не те времена,
А приглядишься –
и разница только одна:
Июнь 2015
СТАРИК
Он встаёт на
рассвете, себя ощущая стеклянным,
И былые мечты об
известности, даже о славе
Он встаёт на
рассвете, когда ещё небо сереет,
И над белым
листом в подступившей тиши кабинетной
А слова отыскать,
чтоб собою мотивчик одели, –
иногда в полчаса,
иногда не хватает недели,
Но уж если такое
сегодня ли, завтра случится,
Июнь 2015
*
* *
Почва трудна и
климат весьма нелёгок;
Но жили именно
здесь или неподалёку
Пахали землю,
пасли стада, воевали,
но не считали
себя брошенными в развале:
Постигшие это
ощутили в судьбе опору:
Не все
законопослушны, не все, нет спору,
И с этим уже
ничего нельзя поделать,
Пускай они потом
барыши поделят,
Жёсткая почва и
небо, что пышет жаром;
Но три тысячи лет
здесь протекли недаром –
стойкости хватит
и нам на тысячи дней.
Июнь 2015
СЛЕД
Что, память, мне
сегодня ты подаришь?
Кто нынче будет у
тебя нелишний?
Пришёл Прокоп
Евграфович Одарич,
Он с нами начинал
с шестого класса,
Он добрым был и
непритворно строгим,
и с нами
управлялся на уроке
Разинув рты, мы
слушали, балдея,
о
полуфантастических идеях,
но от него ни
разу не слыхали
А в пятьдесят
четвёртом среди прочих
пришёл домой,
уснул и умер ночью –
должно быть, без
мучений и досады.
А впрочем, это я
сказал такое,
Чего боялся, в
чём искал покоя?
Что было важно,
что неинтересно?
Во тьме уже почти
неразличимо
Но вот сегодня не
прошёл я мимо.
И что мне с ним?
И что ему со мною?
Июнь 2015
АРЛЕКИН
Наряд лоскутный в разноцветных клиньях,
а небо в звёздах – белых, жёлтых, синих,
Толпе всегда такого смеха мало,
Народ желает, чтоб артист любимый
чтобы хватал за сиськи Коломбину
А зритель прав – он платит за билеты,
и ты, цветастый, будешь делать это,
хотя с души воротит иногда.
Куда ещё деваться Арлекину,
Он некогда Италию покинул
Владеющий гимнастикой и танцем,
А в сердце дом под крышею покатой,
Увлёкся и погнался за удачей,
ему казалось – если что не так,
Одна отрада и душевный роздых,
Июль 2015
У МОРЯ
Светит солнце, плывут облака,
и прозрачна вода, и легка.
Жёлт песок и медвяна сосна,
Но кому адресована весть,
Гость беспечный и путник случайный
Нужен кто-нибудь, изо дня в день
Только этот, за долгие дни
И по ним, неподвластным волнам,
он прочтёт и поймёт постепенно,
Июль 2015
*
* *
«Не сравнивай:
живущий несравним».
И вот пример – на
стыке поколений
С кем сравнивать?
И кто сравнится с ним?
Ещё не создан
даже первый том,
а счёт его со
временем особый:
А мы ведь дышим
воздухом одним
а он вверху
проносится над ним.
Промчатся десять
или двадцать лет,
А мы дышали
воздухом одним
Но ведь давно
известно мудрым людям:
Июль 2015
ПЕРЕСАДКА
Я был в этом городе восемь неполных часов.
Всё было понятно, хотя и совсем незнакомо:
А эти часы украшали резной особняк,
он выстроен был по заказу вельможного грека,
В недальнем соседстве построили новый массив –
полсотни хрущоб и десяток раскрашенных башен.
Кому было дело, что город становится страшен,
Я ждал пересадки, чтоб ехать в другие края,
Иду и в былое своё возвращаюсь не раз,
Потом на вокзале, когда наступила пора,
А я отвечал: – Что роптать? Угораздило вас
Они на себя все людские порывы забрали,
Июль 2015
ВОСХОЖДЕНИЕ Цикл стихотворений
В. 1. Хрестоматия
для лицея Нахожу почти что в
конце я Там четыре
стихотворенья Но хотел бы найти
прозренье: Как находит в развалах
всяких, в столь обычных словах
и знаках А строка, как рожок
пастуший, 2. Окружающий
мир многотруден и сложен; путь утраты смысла и
слома традиций. Ну, а если поэт – не
любитель ломки, Будет он себя ощущать
неловко Если он умён, хорошо
образован, не поддастся пустого
пространства зову Окружающий мир
многотруден и сложен; Если следовать правде,
то путь непреложен, 3. Добро
и зло – не две лучины, не две светящиеся нити: Касайся, нюхай, зри и
слушай, Всевышний даровал нам
душу С душой, пусть даже и
недужной, а малодушный и
бездушный С душой в тревожном
резонансе надежда есть и в малом
шансе; 4. Абсурд
и безнадежность бытия Заманчиво пройти путём
зерна Но у людей в конце
дороги – тленье, И жаль её растратить
навсегда Но можно жить, соблазны
прочь гоня, 5. Сальери
– трудолюбив, Навязший этот мотив хотел бы быть
одарённей? А Моцарту что – пустяк Путь на вершину крут, Труд и ещё раз труд, Дар – всему голова, 6. Европейский
день приятен на вид: Европейская ночь полна
огней; он холодный и он
обманный. Проходишь и видишь
огонь в окне, он холоден, хоть и
светит. Никто тебе не откроет
дверь, ты снова один на свете. Театры, концерты, клубы
элит… А если просто душа
болит – куда человеку деться? Европейская ночь полна
огней; это выморочное действо. Он не исчез и он не
погас; и так же предаст
другого. В европейской ночи не
спасает свет, и когда никакой защиты
нет, остаются лишь знак и
слово. 7. Владимир
Васильевич Вейдле Он знал, что писать о
поэте Владимир Васильевич
Вейдле акустика стихотворенья. Но всех убедить не
выйдет, Нашёлся образ, однако,
– боренье света и мрака: 8. Ирония
рядом с даром; Мёд и цикута рядом; Рядом смех и рыданья; Ни рыданья, ни смеха – одно негромкое эхо… 9. Чернильница
и чёрная тетрадь к лампаде масло в
оловянной плошке, Ни памятников, ни замет
иных, Покуда хоть кому-то на
земле Июль 2015
*
* *
Очень странное трио: рояль, контрабас и валторна,
нет гармонии в нём; а мелодия льётся просторно,
Одинокий рояль с духовым инструментом и струнным –
это жизни осколок, где сходится всё и со всем:
Как и водится в жизни, созвучье встречается редко,
Остаётся одно – понадеяться, бросив монетку:
Если решке с орлом навсегда подчиниться покорно,
Очень странное трио – рояль, контрабас и валторна:
Август 2015
*
* *
Трава густая гасит шаг,
Туманный берег в камышах,
Но ежели пройти камыш
Пространство – небо и вода –
ошеломит своим размером,
Ну разве только от челна,
Но вот и солнечный восход
Пейзаж по-новому живёт,
И в освещении косом,
уходит юношеский сон
Август 2015
*
* *
В годах студенческих давнишних
Ещё и солнце не вставало,
И было прожито так мало,
И снова ночь идёт к рассвету,
И память без усилий лишних
Сентябрь 2015
*
* *
Пора – не пора, я
иду со двора! –
присловьем таким
начиналась игра,
И мы разбегались
по тайным местам
Впечаталась
детская память о том
И лишь появилась
в ограде дыра,
Стремнину пройдя,
я не бросил весло;
Но дом, где живу
я, хранит менора,
Сентябрь 2015 *
* *
В.
Торцовые тротуары, булыжные мостовые…
Я этот город старый вижу словно впервые.
А ведь на самом деле я жил там целое лето,
Смутно припоминаю дамбы речной полудужье.
Шла полоса сплошная удачи в любви и в дружбе.
Только поправить нужно давнее суесловье –
что называл я дружбой? что называл любовью?
Промчались полвека с лишним, я снова в городе этом –
приехал сюда столичным знаменитым поэтом.
Щит с облупленной краской
большой афишей расцвечен:
Стою на скрещенье улиц Пушкинской и Садовой,
Любуюсь транспортом конным для поездки далёкой –
дрожками, фаэтоном и высокой пролёткой.
И с облучка татарин чёрными ест глазами:
– Садись, пожалуйста, барин –
за гривенник прямо к Зале!
– А ты-то грамотен, что ли? Знаком с афишей моею?
– Я не учился в школе, но читать разумею.
Цокает по булыге пёстрая лошадёнка.
Привёз на продажу книги – сборник в обложке тонкой.
Проплывает нерезко город рядом со мною.
Такая была поездка перед большой войною…
Потом я на свет родился, в юности бредил Грином
Киношка – Дворянская Зала, пусто на колокольне,
Я жил там целое лето, читал, писал, и, бывало,
Потом они растворялись в солнечных днях у дамбы,
И снова полвека с лишним, весь мир вокруг изменился,
Опять вопросы недужно проходят у изголовья:
Несбывшегося вериги опять зазвенели звонко,
Сентябрь 2015
*
* *
Когда раскрывались весенние почки,
быть в этой цепочке не ищущих блага
одно достоянье, что стоит беречь.
Меня постепенно в цепочке признали
И капли дождя на ресницах дрожали,
и вечером грело нас пламя костра,
Но вот пролетели нелёгкие годы,
Весь мир изменился в соседстве со мною;
никто не пришлёт мне письмо заказное,
Все мчатся куда-то, природе переча,
Свой путь продолжаю, не зная покоя,
Сентябрь 2015
*
* *
В.
Так получилось – опять мы с тобой опоздали:
Поезд ушёл. Мы в молчанье стоим на вокзале.
Хочешь не хочешь, придётся домой возвращаться.
Сто́ит
задуматься
–
что
это
в
доме
неймётся
Поезд ушёл и уже никогда не вернётся.
Сто́ит
задуматься
–
всё
ли
доделано
в
доме?
Сто́ит
ли
гнаться
за
чем-то
таким
небывалым
Старые снимки, как прежде, в коробке навалом;
что не менялись, казалось, по мере старенья.
Может быть, сто́ит
в
событиях,
бывших
когда-то,
Поезд ушёл, и за ним всё равно не угнаться.
В дом возвратимся, и пусть не томит нас тревога.
Мы ведь хранители памяти – можно признаться
Сентябрь 2015
*
* *
Был сильный мороз.
Некрасов
Наотмашь опять изменилась погода,
Мы думали – это конец перехода,
Из местности, вечно и круто морозной,
однажды увидели на небе звёзды,
– Дошли! Совершилось! – и все ликовали,
И думали все не о долгом привале,
Но тут из морозных покинутых далей
Мы шли, и пейзажи в пути повторялись.
Мы шли с ощущением явных угроз.
Слова потерялись. Мечты потерялись.
Мы шли и дрожали. Был сильный мороз.
Сентябрь 2015
*
* *
Когда уверовал в
паренье,
неважно, ямбом
ли, хореем
И вот прошли
десятилетья,
Октябрь 2015
ПОСЛЕ ВОЙНЫ
…А что мы ведали тогда? Домашних ласк совсем
немножко; Забыть всё это мудрено
– скрепляя памяти опоры, Они старались донести что наши светлые
пути Когда бы так! Но
неспроста Октябрь 2015
*
* * Хорошо просыпаться
весной! Все мечты и желанья –
со мной, вверх!
А то, что она непряма, – это просто игра для
ума, Всё плотнее листва и
трава – это лето вступило в
права, говоря мне: давай
выбирай: А вдали уже осень
зажглась; к урожаю, заметь. Вся листва надо мной в
желтизне, Урожай-то оставить
кому? Он ни сердцу уже, ни
уму – пусть останется так. И уже наступила зима, Октябрь 2015
НА ПЛОТУ
…И приснился мне
сон, что плыву по реке на плоту я,
А откуда плыву и
куда направляюсь – не знаю,
Я плыву на плоту
с каждым днём всё точней и умелей,
Я плыву на плоту
и совсем успокоился даже,
Понимаю одно:
безнадежно к реке возвратиться,
и сквозная дорога
кончается – что же за нею?
…Этот сон был
коротким,
но жизнь
ненамного длиннее…
Октябрь 2015
НЕСОВРЕМЕННАЯ
БАЛЛАДА
В.
Пересуды идут в
городке об одном человеке:
Иногда его видят
в молочном ряду на базаре:
В кошельке его
медь и немного совсем серебра,
Он одет кое-как,
пузырятся штаны на коленях,
Иногда он стоит
на железнодорожном вокзале,
Иногда он стоит
на причале над тихой волной,
Иногда его видят
спешащим к вокзалу с букетом,
Всё запомнят – и
сумку, и туфли, зимою – пальто,
Место есть в
городке огурцам, помидорам и вишням,
одинокий, нелепый
и жителям застящий свет…
Городской
сумасшедший? А может быть, просто поэт?
Октябрь 2015
*
* * Зачем ты, память,
дразнишь и лукавишь – всё скрупулёзно помнишь
и хранишь, …Усадьба одинокая
лесная, Мой знаменитый тёзка у
рояля – показывает путь, где мы
брели: Такой рояль за все свои
года Ноябрь 2015 *
* * По сторонам трамвайного
пути – чащоба травяного
сухостоя, что наш технологический
прогресс А тут блестит стальная
колея И люди, что пока
остались тут, корова во дворе, а то и
лошадь; неподалёку почта и
лабаз, две или три трамвайных
остановки; и время тут размеренно
идёт, Ноябрь 2015 МОЙ ДОМ
Я построил дом на
земле, Брёвна дома ещё в
смоле, можно жить в тиши и в
тепле. В доме солнце почти
всегда – с трёх сторон терраса
открыта. В доме комнаты для
труда, Дом без хитростей и
затей, Я построил
с подвалом дом, в упаковках за томом
том. Я построил дом с
чердаком, тени тех, с кем я был
знаком, Ну, а там у нас на
столе – коньячок и к нему
маслины, все немного навеселе. На земле я построил
дом, Я живу в нём, но что
потом? Он пустым остаться не
может. Кто тогда поселится в
нём? Ноябрь 2015 *
* *
Два слова в
словаре стоят не близко,
и между ними
пробежала искра,
И два ещё, что
оказались рядом, –
пусть не горят,
но светятся они.
Запомни их своим
вечерним взглядом
Пускай она тебя
потом разбудит,
и не уснёшь: она
тревожить будет,
И в маете,
счастливой, но непрочной,
Но не всегда, не
всё так ладно в строе,
Вот слово
обнаружится сырое,
И вот звено
единственное это
такой
опустошительный исход…
Ноябрь 2015
ЗИМА-2015
Что это за зима –
плюс двадцать шесть за окном?!
Четверть века
живём, а всё никак не привыкнем,
А что тому
удивляться – вихрь несомненно был,
обрушились волны,
смешали небыль и быль,
А когда
постепенно схлынуло буйство вод,
И вот осели в
стране, в которой зима не зима,
словно бы
объясняет нам природа сама,
Зима тут – грозы,
дожди, крайняя редкость снег,
А на дорогах
страны – автомобильный бег,
Нужно родиться
здесь, чтоб это в тебя вошло –
яркий горячий
поток, что за окном несётся.
А всё же за
четверть века и нас уже обожгло:
Декабрь 2015
КОМПОЗИТОР
ЛЕВЕРКЮН
Вспоминая
«Доктора Фаустуса»
Композитор
Леверкюн завершает партитуру;
всё он делает
один до последней самой ноты.
Композитор
Леверкюн в напряженье не напрасно:
В кухне нотные
листы, на полу и на кровати –
чтобы все концы
связать, явно памяти не хватит.
Композитор
Леверкюн спрятал уши под ладони:
Чтоб звучание
вобрать и решить свои задачи,
Нужен с дьяволом
союз, навсегда и без сомнений,
Если ж трудишься
и вслух не выказываешь боли,
Композитор
Леверкюн не какой-нибудь бездельник –
он трудяга из
трудяг не для славы, не для денег:
Композитор
Леверкюн завершает партитуру:
В этой музыке
слышна просто дьявольская сила –
всю традицию она
в одночасье подкосила.
Композитор
Леверкюн просыпается в испуге:
и не спрятаться
уже – он склонился к изголовью, –
нужно дьяволу
платить либо мозгом, либо кровью.
Декабрь 2015
*
* *
В.
Целое лето я жил
в однокомнатном доме –
даже
не дом это был, а скорее
сторожка.
Кроме забот
пропитанья и отдыха кроме,
День проводил в
огороде, на озере в лодке
Дважды на дню
торопливый транзистор включался:
Всё это вместе
звучало не более часа;
те, что даруются
Господом в жизни однажды.
Дни становились
короче, а ночи желанней;
…Целое лето
сложилось из воспоминаний,
не было горечи,
не было страха и смуты –
только полёт и
спокойное счастье на деле.
Декабрь 2015 г.
*
* *
Тропинка петляет
по склону большого холма,
Она для чужих,
для случайных – глуха и нема:
Но здешние люди
идут ежедневно по ней,
А ежели вечер
застиг, а тем более ночь,
дорожный фонарик
навряд ли сумеет помочь,
Тропинка петляет
по склону большого холма;
По ней сообщаться
не нужно большого ума,
Декабрь 2015
БАЛЛАДА О ХЛЕБЕ
Слуги, громко
роптать не смея,
Но не в том у
людей печали,
что в застолье
все промолчали
И отправились
люди к Деду.
Дед был
родственник-приживала,
А про Деда молва
ходила,
Дед хлебнул того,
что в кувшине
– Кто ж ему
запретит? – спросили.
Он ответил: –
Дарю признанье:
Мальчик здорово
испугался,
Дед сидел за
столом бледнющий
(лишь на лбу
багровые пятна),
«Аф паам» он
сказал сурово,
но забыл
возвратное слово,
…Был балован
мальчик-наследник,
Был непрост и
путь многолетний,
Лишь одна была
закавыка –
память месячной
детской муки:
но никак не
давался в руки;
И когда в жаре
Палестины
Декабрь 2015
*
* *
Сейчас картографы
ставят прочерк
А когда-то была
здесь роща
Уже и тогда жара
и ветер
Держались вместе
деревья эти,
Потом в соседстве
построился город,
И
медленно-медленно, год за годом,
Медленно-медленно
засыхали
И вот века
сменились веками,
А город кончился
постепенно,
Стали ветхими
крыши и стены,
Лишь иногда
минувшего тени
А в сумерках
исчезают виденья,
и только в камне
чернеет роща.
Январь 2016
ДОМ С МЕЗОНИНОМ
Старый дом
деревянный
с крыльцом, мезонином и флюгером
В январе он порой
был по окна засыпанным вьюгами,
Дом стоял за
оградой, дополненный садиком крохотным –
восемь яблонь и
вишен и два небольших цветника.
Мезонин
откликался на ветер задумчивым рокотом,
Я бывал в этом
доме не часто и без регулярности;
Но со мною
случались в разлуке различные странности,
Я садился в
троллейбус и ехал туда, на окраину,
и виляет хвостом,
как собака, что рада хозяину, –
ну, пускай не
хвостом – виноградом на южной стене.
Там бывали
другие, постарше меня и позвёзднее:
Небольшое
застолье с печеньем и лёгким вином,
Путь обратный не
близок;
домой возвращался я за полночь,
А сегодня меня
разбудило прозренье внезапное:
это было
предчувствие нынешней жизни моей.
Январь 2016
*
* * Мне часто снился дождь
в былые времена – осенний, затяжной,
безветренный и с ветром, панельные дома с
потёками на стенках, Но два десятка лет уже
не снится он. А снится, и не раз,
что, на свою беду, Недобрые глаза я
чувствую спиной – они глядят вослед,
бесчувствием пугая, – и всё же чудом я
из дома выбегаю – а там осенний дождь,
холодный, затяжной… Январь 2016
*
* *
Вороний крик на
побелённой кроне,
тревожный голос
поезда вдали.
Печальный профиль
на окне вагонном,
Проходит год в
его природном ладе,
и снова
опостылевший перрон,
Я эту память
глубже не затрону,
Январь 2016
МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
Май в цветущих
каштанах, и мне исполняется двадцать:
«Приедается всё,
лишь тебе не дано примелькаться», –
молодой режиссёр
написал на подаренной книге.
Был о нём я
наслышан, однако не виделся лично,
А явился он с
тою, что мне не была безразлична, –
взрослый, умный,
спокойный на нашем студенческом фоне.
А дарёная книга
была о Винсенте Ван Гоге,
И весь вечер
дальнейший я был в объяснимой тревоге,
Вечер был
поначалу смешной, безалаберный, шумный,
он в застолье
солировал –
взрослый, спокойный и умный;
А она
затаилась, ловя его каждое слово,
И поднялся тогда,
и прочёл я стихи Ушакова
Гость по праву
был умным: поняв дисбаланс положенья,
и стал торопливо прощаться.
И не выдал ничем,
не признал своего пораженья,
У дверей наши
руки, прощаясь, помедлили малость.
Возродилось
веселье с какой-то поспешностью зыбкой.
Он ушёл – и ушёл.
А она почему-то осталась,
Январь 2016
*
* *
Косые взгляды
фонарей сутулых
С проспекта
погружаюсь в переулок.
Из шума
погружаюсь в тишину.
И в ней неспешно
что-то прорастает,
какая-то мелодия
простая
Она потом
наполнится словами
Но это всё потом.
А поначалу
чтоб только
тишина одна звучала
Январь 2016
*
* *
У Центрального
стадиона, справа от главного входа,
Ежедневно, в
любое время и даже в любую погоду
Там собирались
люди – поговорить, поспорить,
услышать слухи и
сплетни прицельно и наудачу,
А всего-то была площадка метров так сто на сорок;
Были здесь в разное время очень разные люди –
все возрасты, все занятья, все нации, все достатки, –
но все одного хотели: команда, которую любим,
Действительно, было единство на площади сто на сорок,
Но за его оградой был разногласий ворох,
Разногласия эти долго копились под спудом,
и пошло повсеместно мощным майданным гудом
Январь 2016
*
* * Хоть нажатия клавиш
легки В память шлёт донесенья
рука, Так нагляден запутанный
путь можно даже назад
повернуть Карандаш, как на речке
паром, Но признаюсь – гусиным
пером Январь 2016 *
* *
На ночь немного
хлебнуть коньяку,
и засыпать на
удобном боку,
И пробудиться
среди темноты:
И осознать
иллюзорность мечты –
боли мои
разгораются снова.
Что тут поделать
– оно не впервой,
Так и живу от
Второй Мировой
В годы сплетаются
разные дни,
Только снаружи
они не видны,
Февраль 2016
*
* *
В. Я вернулся из
Кызыл-Кумов. Был приезд не то чтоб
обдуман, По перрону осень
свистала, Было шумно и
многолюдно, Было зябко – но ты
встречала С этой давней памятной
встречи Одолев и боль, и
усталость, И была ты лёгкой, как
птица, к той, в которой я
снова понял: Февраль 2016
ВОСПОМИНАНИЕ О
КНИГЕ ДЕТСТВА Вспоминаю, как будто я
заново книгу читаю: И всего-то заботы
подкладывать хвойные сучья, Примостился к огню,
чтобы холод не очень-то мучил, А когда пробудился –
лишь сизый дымок над кострищем… Возвратились охотники
после опасных погонь. Нужно мясо коптить,
чтобы жить с припасённою пищей, Наказанье жестоко, и
мальчик из племени изгнан. Уходи, куда хочешь,
спасайся, как можешь, теперь. Говорят, есть ещё
племена, но уж явно не близко, Крек уходит за солнцем
и день, и второй, и десятый. И теряется счёт,
пропадают людские следы. И не скоро он видит
селение в крышах покатых: Там стреляют из лука, и
ценится вдумчивый выстрел, Там огонь добывают
вращением палочки быстрым В одиноких скитаньях
скопив размышленья и силу, Из пещерного детства
судьба его долго носила, Закалённый в дорогах,
изведавший муку изгнанья, Тростниковым жилищам и
людям, сроднившимся с ними, У него сохранилось,
конечно, и прежнее имя, Февраль 2016 *
* *
Приготовлены
краски и кисти,
и художник не
ради корысти
А зачем? Он и сам
не ответит,
Ведь уже
существуют на свете
Не влекут его
формы изломы,
треугольные астры
не манят.
Он их пишет у
самого дома,
Он их пишет и
просто, и ясно,
ибо жизнь отцветает и
вянет, А художник спокоен и
занят:
у художника
краски и кисти…
Февраль 2016
*
* *
В. Во сне ты была – и
внезапно пропала, Искал я тебя среди
шумного бала, бросался на лестницы и
галереи и мысленно я чёрт-те
что рисовал. То был я в ознобе, то
было мне душно; никто не проникся,
никто не помог. И я возвратился в
гостиницу нашу, а там без труда
обнаружил пропажу: Всё тихо и мирно,
по-своему мило – часы на камине,
светильник в углу… И ты, пробудившись,
резонно спросила:
– Да что же нам делать
на шумном балу? Мы не были там! Ну,
скажи-ка на милость, Твоё приключение просто
приснилось – ты как-то уж очень
запутался в снах!.. И впрямь, я и нынче не
вижу границы И тут уже мысль
совершенно шальная а что, если эти стихи
сочиняя, Тогда остаётся одно
только, чтобы Февраль 2016 *
* *
Легко писать о
том, чего не было и не будет:
Трудно писать об
обычном – о ежедневных буднях:
Каждый вправе
судить – он с автором по соседству;
если бы не
работа, выпивка или дети.
Но тот, кто пишет
о буднях, их знает не понаслышке,
А в это самое
время эти самые персонажи,
Отныне и навсегда
изменяется в нём погода,
и за нашими
окнами, невзирая на время года,
Февраль 2016
КАССЕТА
Без умысла
случилось это:
я начисто забыл о
ней.
А ведь когда-то
со стараньем
пред
людным дружеским собраньем
Была там тишина
немая,
Пусть правда не
была сермяжной,
Я говорил себе: –
Не сетуй,
и эту жалкую
кассету
…Как быстро время
пробежало –
эпоха целая
прошла!
Кассета молча
пролежала
На антресоли в
разном хламе
и звуки, спавшие
годами,
Но вот минута, и
другая –
беззвучен
прошлого парад:
И вот сижу, и нет
печали,
И полтора часа
молчанья –
той жизни полтора
часа…
Февраль 2016
БАЛЛАДА О
НОЧНОЙ ДОРОГЕ
В. Пасмурный день, и
отсюда хоть выколи глаз Жарко и холодно: жарко
от тягостной ноши,
Вот и бреду, натыкаясь
во тьме на стволы; не повреждаюсь: и руки,
и ноги в порядке, Дальше иду, и внезапно
кончается лес. В поле открытом
держаться дороги труднее. Дальше должна быть река
под мостом, а за нею Вот и река. Неожиданный
дом у реки. В окнах светло. На
крылечко уютное это Женщина в доме ладонями
сжала виски. Тяжкую ношу сняла со
спины у меня, Пятнам смолы
усмехнулась она почему-то – эту усмешку храню до
последнего дня. Божьему знаку не стал
поступать вопреки: в город ушёл; но под
вечер вернулся обратно, Февраль 2016
*
* * Воспарять в небеса
надоело, Если б ночью спина не
болела, Я лежал бы и думал о
разном, Но когда ежедневной
болью мне даровано
стихосложение. И лежу, подбирая рифмы, В предрассветном лёгком
тумане И влечёт с ощущеньем
воли Засыпаю, забыв о боли. Через два часа
пробуждение. Февраль 2016 ПРОРОК
Вы пророка,
должно быть, себе представляете так –
вот приходят: –
Что завтра случится? – его
вопрошают.
А пророк
отвечает: – Война разразится большая;
Вы пророка,
должно быть, себе представляете так –
лаконичен и
строг, предсказанье в единственной фразе,
а до этого он
существует в особом экстазе:
Вы пророка,
должно быть, себе представляете так –
на верха
вознесён, в благодать без конкретного срока:
А на самом-то
деле никто не приходит к нему,
Вот когда
ошибутся, о завтрашний день ушибутся –
плачут и голосят,
но от этого легче кому?
Он живёт, как и
все мы, но только намного трудней,
А Господь
говорит: – Потерпи, претерпи свою участь –
люди это поймут
через многие множества дней.
Март 2016
*
* * Ручка-вставочка,
железное перо, В первом классе – это
главное добро, У пера был номер –
восемьдесят шесть, Несмываемые пятна на
руке, Лето целое от школы
вдалеке Результат был
предсказуемо не нов, в нашем классе три
десятка пацанов – лучший почерк оказался
у меня. С той поры промчались
семь десятков лет, Но случается, жалею я
тайком видно, в детстве мы
всосали с молоком: Март 2016
ОТГОЛОСКИ Цикл стихотворений
Я ловлю в далёком отголоске,
Что случится на моём веку.
Борис Пастернак,
«Стихи из романа»
ПРОЛОГ
Ты посетил сей мир не в
минуты и не в часы – ты посетил сей мир в
его роковые годы, Впервые в людской
истории заговорил пулемёт, Впервые в людской
истории счёт убитых идёт Войны и революции,
дальше войны опять, Можешь сколько угодно
жаловаться и роптать – жалоб твоих не примут и
объективные судьи. Не то чтобы рухнул дом
– обрушился целый строй; Никто тебе не подарит
жизни твоей второй, а хочешь ли эту менять
– тебя о том не спросили. Но у тебя был дар –
слышать и видеть слова И, значит, пока ты жил,
была надежда жива, Ты не по желанью попал
во временной разлом, под смертоносной косы
особо опасный вымах, но сохранил для нас
тёплый и чистый дом ВРАЧ Две стихии
противоположных Два стремленья, и
простых, и сложных, Нужно обеспечить хлеб
насущный, Был он врач и понимал
недуги, Но соображениям о духе Для чего я есть на
белом свете? Что потом, когда сойду
в могилу? Тайна жизни и загадка
смерти Завтра – это новая
страница, Чтобы чуять, что должно
случиться, Для поэта вовсе не
помеха Век прошёл – а не
смолкает эхо
ГОСПИТАЛЬ
Так уж устроено глупо, А госпиталь – это выток Трудится врач, спасая, Сутками не угасает Удача даётся скупо, Врач производит трупы, Здесь ни к чему детали
– нужен смиренный дух: И позже в ночах
бессонных, врач вспомнит иных
спасённых… А тех, которых не спас?
ВИДЕНИЕ
Нет врача – такой в
отряде изъян; Будешь теперь скакать в
рядах партизан – то ли они партизаны, то
ли бандиты. Тот, в чьей руке наган,
кто от власти пьян, Землю крестьянам! И где
она у крестьян? Заводы рабочим! И где
они у рабочих? Отряд прошёл, за собой
оставив следы: Над всей землёй надолго
запах беды, Осенний дождь зальёт
пожары с трудом, Но нужно жить, и
отстроят сгоревший дом, Рутинный труд, его
ежедневный гнёт… Идёшь за плугом,
затихший и седоглавый. Глубокая вспашка всю
почву перевернёт. На ней обильно взойдут
сорные травы.
ТЕТРАДЬ
Почти еженощно что-то
мешает спать – дальние выстрелы либо
гудки паровоза. Почти еженощно стихи
ложатся в тетрадь: В черновиках ты
безгранично строг, Твердят доброхоты: так
безоглядно не трать Но может статься,
останется лишь тетрадь, Конечно, были они
– не тебе чета, Но если ты мастер,
значит, есть и черта, Что-то скажут, напишут,
выделят иногда – это слова пустые и дело
пустое. Важно одно – чтоб не
жгло чувство стыда,
ПИСЬМО ЧЕРЕЗ
ВЕК Бьют по своим; иногда
недолёт, перелёт, чаще прицельно – где
голые и босые… Юрий Андреич, попали Вы
в переплёт! Нынче поэту нечего
делать в России. Наглая сила с оружием
правит бал, В хаосе тоже можно
прожить пока, Тяжко жить под сенью
этой руки; разве что о трудах и
плодах в огороде. Вы были небу, земле,
природе под стать, Годы пройдут, и некому
будет читать,
ПОЕЗД
Где-то там экватор,
где-то полюс – в средней полосе не так
жестоко. Через всю Россию едет
поезд Паровоз когда-то был
красавец, Едут люди, от беды
спасаясь, Дело, разумеется, за
малым – знать бы о надёжном
варианте. Говорят, что легче за
Уралом, Наобум скитаться не
годится, жизнь одна и кровь-то –
не водица, что случится с каждым –
неизвестно. Можно лишь беду свою
упрочить, Может быть, и в самом
деле проще лишь бы денег на билет
осталось. В нищете обувки и
одежды но и стать воистину
свободным.
ЭПИЛОГ Над планетой зависла
обманчивая тишина, вот бы ей продержаться
хотя бы в границах столетья… После Первой всемирной
была и Вторая война; И отринуть всё это,
надежду создав на заказ, Но, по счастью для нас,
ежедневны восход и закат, Там случаются злоба, и
стыд, и добра торжество, продолжается жизнь, и
вот это важнее всего: И когда появляется в
ней настоящий поэт, вопреки временам,
вопреки катаклизмам и войнам. Назначенье его – чистый
звук и глубинная речь, Но судьба перед тем,
как его на бессмертье обречь, Март 2016
*
* *
Если выпало в империи родиться,
Иосиф
Бродский
Славно жить в
провинции, но ликовать не рано ли?
На римскую
провинцию варвары нагрянули.
Может быть, чуть
менее, может быть, чуть более,
Варварам до
факела храмы, изваяния,
книжные
хранилища, форумные здания.
Если на дороге их
что-нибудь мешается,
Ну, а после
факела если что останется,
Поживут, поездят,
выметут окрестности
…В уголке
империи, жалком и разрушенном,
И если пообщаться
с местным населением,
Март 2016
*
* *
Полдень. Улица.
Март. Хамсин.
Вот я вижу: в
стекле идёт
Понимаю – это я
сам,
мой ответ на
небесный жар,
Разве я уж
настолько хил,
Представлялось,
что больше сил
Представлялось,
что этот зной –
Представлялось,
что предо мной
Но идёт в
зеркальном стекле
у которого на
земле
Ну, и я иду и
молчу,
Состязаться с ним
не хочу:
Март 2016
*
* *
Дом пока ещё жив,
просто в доме никто не живёт, а что он ещё жив, то
понятно по разным приметам: Дом стоит, обезлюдев,
не первый, наверное, год, А в окрестностях дома
какие-то жители есть, Только это не призраки
– там в помещениях я или, если точнее,
бессонная память моя
по скопленью придуманных комнат. Я построил его, я
жильцами его населил; Но, похоже, кому-то
серьёзно мой дом насолил: Март 2016
БАЛЛАДА О ПАРКОВОМ АТТРАКЦИОНЕ В парке аттракцион,
заманчивый и пугающий: Люди стоят, сидят, иные
даже ложатся, Можно пока глазеть,
можно пока общаться – но вот деревянный
помост пошёл неспешно вращаться. Проходит за кругом
круг, всё ещё в поле зрения, Проходит за кругом
круг, сила растёт центробежная, те, кто были в серёдке,
сползают на край помоста. А держаться-то не за
что, а карусель разгоняется, Им ещё разбираться,
одолев головы́
круженье, А на помост вожделенный
встали уже и сели Апрель 2016
БЛУДНЫЙ СЫН
…Там под ветром
деревья гнутся,
Блудный сын хотел
бы вернуться,
Возвратившись, он
обнаружит
Дом отцовский
пуст и разрушен,
Перед кем стоять
на коленях?
Руки чьи целовать
при встрече?
Много лет работал
без лени,
Именитым он стал
за годы,
А придёт под
родные своды?
Знак беды, куда
ни гляди там!
…Босоногое
детство снится,
И не знает, где
прислониться,
Апрель 2016
СЧАСТЛИВЦЕВ Маленькая поэма В богатом доме я пожил
когда-то; Вот он как раз и
пригласил меня, Приехали. Он объявил об
этом, Мне где-то притулиться
было надо, Дом под Калугой; комнат
было шесть. Мне отвели пространство
мезонина. Царила в доме строгая
рутина – три раза за́ день
приглашали есть. Кормили там и вкусно, и
обильно, А ежели я погружался в
труд, Была в те дни свобода
мне дана А в доме и во всём его
хозяйстве Она была моложе лет на
двадцать, С утра пила парное
молоко, полученное в школе
обученье По вечерам фигурное
катанье Я сиживал там тоже, но
нечасто, А что? Достаток и
надёжный быт, что промах твой прощён,
но не забыт. И вот, когда я
вглядывался в лица то понимал, что я для
них чужой, Они тут жили. Я, хоть
званый гость, За двадцать дней ни
одного вопроса, неважно, хоть поэзия,
хоть проза, – как это всё велите
понимать? Лишь генерал ворчал: –
Развейся малость – ты посмотри, что от
тебя осталось! Давай по пиву! – и
беззлобно: – …мать! …Сидел я наверху среди
тетрадей, И я подумал: если не
сойду, но за столом теченье
ритуала Из мезонина с крышею
двускатной В ночи, собрав дорожный
свой баул Ждал поезда на станции
Калуга, И, не виня
гостеприимных мест, Апрель 2016
*
* * Это всё ночами
случается – вижу, сонно или бессонно: Становлюсь я не только
зрителем, но и слышу, и нет вопроса, Размышляю в ночи
настойчиво: что бы всё это означало? Есть квартира и быт
устойчивый, а вагон – это всё сначала. Переменится очень
многое, что привычно было и мило, а дорожная жизнь убогая
мне давно уже не под силу. Но моя догадка
внезапная заставляет совсем проснуться. Этот поезд и вышел
затемно, чтоб к рассвету в депо вернуться. Этот поезд состава
странного и неназванного маршрута: Невозможно никак
заранее знать, когда он явится снова: А она – то от
настроения, то от боли, то от погоды, Апрель 2016 ВОКЗАЛЬНАЯ БАЛЛАДА Зданье без изысков и
затей. Старых лип нестриженые
кроны. Светофоры, стрелки и
перроны. Два десятка рельсовых
путей. Есть вокзал – должны
быть поезда; Это не фантастика, а
быль, от неё отчаянием веет,
– лишь вагоны на путях
ржавеют Некогда работавшие тут что их судьбы так
перекосило, Невозможно знать
наверняка, что там было – мор?
внезапный голод? Но, похоже, согласился
город «А зачем куда-то
уезжать? Город наш вполне
благополучен. Может, без поездок даже
лучше Так примерно сам себе
сказал Площадь, что Вокзальною
была, Едет он по ней, не
понимая, Едет он и пирожок жуёт, Апрель 2016
ОСТРОВ
…Когда уже не
осталось почти никакой надежды,
Утром глянуло
солнце и подсушило одежды;
Остров совсем
невелик: пять километров на три;
Нашли небольшой
ручеёк, в избытке хлористый натрий –
база для
повторенья подвигов Робинзона.
Нашли подобие
хижины, в ней кое-какую утварь,
Понадеялись на
охоту сразу же, завтра утром, –
есть небольшие
сети и даже силки для птицы.
А главная
клад-находка – спички и зажигалки,
Дотянем за счёт
охоты, дотянем за счёт рыбалки,
Полгода почти
Провиденье поило нас и кормило;
Лето прошло
спокойно, осенью заштормило,
После недолгих
формальностей к давней жизни вернулись,
Остались те же
виденья знакомых домов и улиц,
Мы и они
на суше спокойно живём и уютно,
ибо не можем
понять друг друга мы обоюдно:
Апрель 2016
ФАНТОМНАЯ БАЛЛАДА Все вставали, когда
появлялся он в зале, – те, что знали его, и
те, что не знали: Он, в обычной одежде и
без охраны, Он смотрел не ласково и
не сурово, Он садился с краю
срединного ряда, никогда не ближе, но и
не дальше, И если собрание шло по
плану, обычно раньше
голосованья, Но привставал, если
были сбои, – и конфликты гасли сами
собою, Но когда уходили люди
из зала, Там театра столичного
шли гастроли; А возможно, он вовсе не
был актёром, Впрочем, кто бы он ни
был, это неважно – важно то, что в зале
держался отважно, И не факт, что время
сейчас другое, Апрель 2016
БАЛЛАДА О СВОБОДНОМ ЧЕЛОВЕКЕ Рабовладелец даровал
свободу Был этот горб,
конечно, фигуральный: Всё спорилось в руках
его могучих; И вот свобода, и семья
свободна, никто тебе сегодня не
указ. И бывший раб за дело
взялся круто – стал строить для
желающих дома, Уже заказ спешит вослед
заказу, И вольные из жителей
округи и вскоре их мастеровые
руки А как-то раз к нему
заехал к ночи «Конечно, нарушение
традиций, Они хотят и могут
потрудиться «Предпочитаю брать
людей свободных, «Но ты же сам…»
«Я выбился из правил: А ты мне биографию
исправил, но душу мне не ты
освобождал – раздумья от заката до
восхода Зачем, скажи, дарёная
свобода На воле или в рабстве –
мы всё те же, Чего невпроворот, так
это боли, и так прискорбно мало
доброты, Чтоб завтра устоять при
непогоде, А сыновья твои пускай
приходят – почти уверен, что они в
отца». …Вот так бы и
закончиться рассказу – рукопожатьем крепких
мужиков. Но жизнь свои поправки
вносит сразу, спалили дом, и склад, и
всё хозяйство Откуда бы злодеям этим
взяться? Рабы – такой запуганный
народ. Но так прогнуться
дьяволу в угоду, Как видно, обретённая
свобода Апрель 2016
ЯРМАРКА
Валентине Полухиной
Шесть областей
приехали сюда,
чтобы на воздухе неделю торговать
надеть, приладить к дому или экипажу.
В палатке стол и
стулья,
холодильник, спальник (иногда кровать)
на эту
распродажу.
Весь день на
площади между палатками
кипят торговые ряды,
При общем взгляде
это всё похоже на вторжение орды;
радио орёт не умолкая.
А в центре
площади – брезентовый
высокий и нарядный балаган,
Оттуда слышится
то флейта, то труба, то барабан,
Не ярмарка –
бедлам: звук перешёл за болевой порог,
И вдруг буквально
возле уха чей-то сиплый говорок:
– Не нужен
Брэдбери? Вы знаете…
ну, да… по Фаренгейту…
– А что, есть
книга? – Предположим.
– Право на молчание храня,
Но я спрошу: а
почему для предложения вы выбрали меня?
– А просто вижу
облик человека, верящего в чудо.
С тех пор, как
книги перестали выпускать
и в магазинах продавать,
Те, что чаще
попадаются,
стараюсь тем, кто хочет, раздавать;
В контактах этих
научился безошибочно распознавать людей:
что никогда друг друга не заложат.
А обстоятельства
для книжников
с годами всё круче, всё лютей,
Так нужен
Брэдбери? – Конечно.
– Что тогда предложите взамен?
– А вы согласны
лишь меняться?
– Естественно и несомненно.
Подумайте
серьёзно, не спеша;
не сомневаюсь – вы же джентльмен.
– Тогда
Шолом-Алейхем, «С ярмарки».
По-моему, достойная замена.
Май 2016 *
* * Вечереет. В небе ярче
знаки, Даже продолжать своё
движенье Все мои победы,
пораженья, спуски и подъёмы – за
спиной. Влево, вправо – нет, не
всё едино: После смерти Бродского
– равнина, Июнь 2016
*
* *
Бессонница.
Гомер. А как же дальше там?
Тугие паруса и
список корабельный…
Упомянув о нём с
отвагой беспредельной,
Не сравнивай,
сказал, живущий несравним,
Сейчас писать
легко. Так в чём тогда отвага?
В том, что
античный мир всецело стал своим.
Тогда и брадобрей
покажется смешным,
Во времени своём
мы как бы постояльцы,
А что тогда
страна? Судьба её хрома,
и море каждый
день приносит к изголовью
Июнь 2016
ТЕАТРАЛЬНАЯ БАЛЛАДА Режиссёр объясняет
актёру: «Вот представь, ты
восходишь на гору. Крутизна. Ледяная
тропа. По пути оставляет
отвага. Вероятность неверного
шага, Хоть идёшь и под грузом
не гнёшься, это плата за риск и за
страх…» Отвечает артист
режиссёру: Режиссёр объясняет
актёру: «Наверху маловато
простору - как поднимешься, сам
убедишься, закружится твоя голова. То ли дело у нас на
равнине: все твои, ими
властвуешь ты!..» Отвечает артист
режиссёру: не хватает душе
высоты». Режиссёр объясняет
актёру: «На вершине коллеги не
впору – все хотят на
единственный пик. А внизу предостаточно
шири, Вот поднимешься, сам
убедишься; Отвечает артист
режиссёру: Июнь 2016
СТИХО-ТВОРЕНИЕ
В. Момент появления
замысла необъясним: Оставить как есть и
растить виртуально вполне? В горшок пересаживать с
чёрной навозной землёю? А может быть, в поле?
Но ежели дело зимою, Лопатку сапёрную нужно
в кладовке сыскать, Дождаться весны, и
когда половодье сойдёт, Но надобно помнить, что
много забот предстоит – вода, удобренья, и
гусениц сбросить руками, Немалого вклада
потребует он от меня, а всё это длилось в
течение ночи и дня. Момент появления
замысла неуследим; придёт не спросясь и
назавтра растает, как дым… Июль 2016 СЧАСТЛИВОЕ ЛЕТО Белый налив,
простокваша и к чаю коврижка, много
ли надо мальчишке двенадцати лет? Лаской и шуткой, а то
иногда и сердито Был я послушным и вроде
бы неприхотливым ибо предписано было
серьёзным врачом Город Черкассы, разгар
юбилейного года, Вечером двор, где уже я
со всеми знаком, Дочка соседки –
студентка из местного Педа, Гоголь, Некрасов,
Каверин, Гайдар и Кассиль, Счастье ли это? Должно
быть, не счастье, а призрак, Но ведь не зря тот
далёкий припомнился год – полуреальный, в
болезнях, зато без забот!.. Июль 2016 СОНАТА Сонатная форма слегка
жестковата, А если душа совершенно
свободна, И если душа совершенно
свободна, и в части второй при
свободе такой И если душа совершенно
свободна, А впрочем, всё это –
лишь схема, не боле: ведь если не чувствует
боли душа, Июль 2016 *
* * Никто не знает, сколько
ещё осталось Годится любая строчка с
рифмой «усталость»: Переступают её
мосластые ноги Никто не знает сроков
этой дороги – Когда-то раньше могли
бы быть варианты; Ведь там нужны совсем
другие таланты, Бредёт лошадка,
качается с боку на бок, Ведёт дорога и к ней
ежедневный навык. Никто не знает, зачем
эта жизнь была. Июль 2016 *
* * Это осень дождями
косыми облетевшая стынет осина Молча стынет, лишь
изредка стонет Напрягись и прислушайся
к стонам, Но не легче и
вечнозелёным Там неважно, какая
погода, ежедневно в течение
года Если ж это стремленье
уснуло, Июль 2016
СНИМОК Скромный домик под
красною крышей где, когда его видел
впервые – на рисунке? на фото? в
кино? Но ведь видел – поля
снеговые Этот снимок не зимний,
а летний: Умирает надежда
последней, Скромный домик под
красною крышей прочный подпол, и
крепкие лыжи, Мы невольно становимся
выше Говорит он, что многого
стоим, и таким одаряет покоем, Июль 2016 МАЛЕНЬКИЙ ОСТРОВ Десять жилищ – вот и
всё поселенье. Псковское озеро.
Маленький остров. Люди живут без унынья и
лени: Сушат её и коптят,
сохраняют Корюшка-рыбка заманчива
многим, как говорится, и нашим,
и вашим. С берегом связь –
катерок старомодный, видно, посудина кем-то
забыта. Это неважно, что он
тихоходный, Жизнь постоянна и
выглядит просто, Июль 2016 ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА Хорошо, если станция
близко, Но не нужно, кляня
бездорожье, Здесь и старые шпалы –
поленья, ибо вся полоса
населенья от дороги у них и
зарплата, А дорога давно
устарела, Перестроить её
невозможно, И развеется без
сожаленья Июль 2016 ЗАДАЧА Эпизод моей памяти
школьной И учитель наш Фёдор
Мойсеич так, минут на
пятнадцать, на двадцать, – но читаю и снова читаю, Полагаю, что в тексте
умело Что ж, ребята, беритесь
за дело, Мы молчим и берёмся за
дело, Пусть не всех, но
кого-то задела Что ж вокруг мы да
около ходим Оказалось – решенье
находим, В классе нас двадцать
пять или тридцать, Только трое сумели
добиться Вряд ли это была
неудача – просто всех нас ввели в
искушенье: Июль 2016 СУДЬЯ Судья судил седого
старика: Судья и сам был тоже
очень стар, Поэтому, всего скорее,
он Давая объективности
урок, А старика судили за
убийство, что сам себя умышленно
убил, – Его к тому принудили
вначале! – его защитник, в скорби
и печали, Старик поправил: – К
поприщу готовясь, В дискуссию вмешался
прокурор Он был речист, надеясь
на успех. Судья и этих выслушал,
и тех, – Ход времени, увы,
необратим. Да, я судил, но я же
был судим Непросто подводить итог
в судьбе, но приговор, что вынес
я себе, Июль 2016 ГОРЕМЫКИНО Деревня Горемыкино
вдоль берега лежала в своём грибном и
ягодном просмоленном краю. Деревня Горемыкино,
дворов примерно сорок, Откуда то название, не
помнила она, Деревня Горемыкино жила
бы так и дале, работай по-стахановски,
а там хоть в землю ляг! Деревня Горемыкино,
когда кончались души, всего одно рождение и
ежедневно смерть. То с голодухи падали, а
то ещё хвороба, Деревня Горемыкино на
том пути пустяк: В деревне Горемыкино на
берегу канала беседа с местным
жителем меня и доконала: живущий там с рождения,
он попросту не знал И вся страна огромная
передо мной предстала Июль 2016 ФОКУСНИК Ловкий малый этот
фокусник-циркач: мяч вернулся и косынку
приволок. Положил яйцо куриное на
стол а под ней цыплёнок
жёлтенький такой! Смотрит публика во все
глаза вокруг, Всё обман и ловкость
рук – и что с того? Восхищают нас талант и
мастерство! Ловкий малый этот
фокусник-еврей: распилил коробку эту
пополам – два кота теперь
подмигивают нам! Вот молитвенник он
положил на стол и молитвенник – он
даром что без крыл – сам раскрылся и над
местом воспарил! Смотрит публика во все
глаза вокруг …Ловкий малый чуть не с
нищенской сумой Он неловко ставит ноги
в темноте, И опять, преодолев и
этот мрак, плохо кормит эта служба
циркача. Но к полуночи, когда
больней всего, Июль 2016 *
* * Много если не сил, то
порывов Не терпел никаких
перерывов – побыстрее хотелось
дойти. И дошёл. И увидел, что
в спешке И вращаю тяжёлую
память, Ничего невозможно
исправить. Изменить ничего не
дано. Август 2016 *
* * Принадлежал мне целый
материк – ещё поныне живы те
виденья: Я знал на нём все реки
и леса, и различал в дороге
голоса Потом пошли подземные
толчки, И снаряжал я шустрый
катерок А дальше океан войдёт в
права, И будет, притяжением
влеком, кружить нал одиноким
островком, Август 2016
*
* * Ни разу не скакал я на
коне, Потом, конечно, были
поезда, Я звёзд из них не видел
никогда – поспешен бег и свет в
окошках ярок. И вот в полночной тьме
умчался сон не только звёзды и не
только кони… Август 2016
*
* * Рельсы с берега уходят
прямо по́д
воду, Если б рельсы из воды
могли быть подняты, Что прокладывали путь с
востока к западу, то ли средства
испарились – не найти. А покуда шло ошибок
исправление И не половцы, не
полчища Батыевы красно-белые и
жёлто-голубые там Разобрались.
Маркировочные линии И остались: берег,
волны грязно-синие, Сентябрь 2016 ПОГРУЗКА Воспоминание из
студенческих лет По деревянным сходням
ношу зерно в амбар. Мешки на полцентнера,
отборная пшеница. А сходни-то пружинят, а
над спиною пар, В амбаре на погрузке
работает артель – похоже на конвейер меж
двух дверей амбарных: Дрожат мои колени,
такой нелёгкий груз, а только до полудня не
будет перерыва. Со сходней вниз
сорваться – опасно расшибусь… Вниз не смотреть
стараюсь, лишь улыбаюсь криво. В тени стены амбарной
сидим, обед жуём. В тени стены амбарной
лежим, в себя приходим. В тени стены амбарной я
думаю о том, Но надобно подняться и
надобно идти: На деревянных сходнях
сошлись мои пути, Сентябрь 2016 РАЗГОВОР Фантазия по мотивам
рассказов Юрия Домбровского Мистер Вильям Шекспир в
кабаке придорожного круга: В разговоре они хорошо
понимают друг друга, Эти двое знакомы не
менее четверти века. Всё трактирщик читал и
ценил непредвзято и точно. Много было бесед, но
сегодня особая веха: мистер Вильям сказал,
что в писанье поставлена точка. Он сказал: – Я устал, я
на выдохе, вдоха не будет, Тяжко спится потом,
вдохновение утром не будит, Вы не верите, Джек, но
послушайте, брови не хмуря; Если я постараюсь,
возможно, получится «Буря», А зачем же корпеть,
если знать, что не выдумать порох А по кругу ходить – это
дело для лошади в шорах, – Мистер Вильям! –
трактирщик ответил на жалобы эти. – Вам поверил мой разум,
а всё же не верится сердцу. Слава Господу Богу за
то, что вы были на свете, Ваши пьесы останутся,
как перелётные птицы: Вами сделано столько,
что можно уже не стараться, дни не тратить с
друзьями и даже с врагами не драться, Мы не очень-то рады
узнать, что грядут перемены: Но ведь в кои-то веки
вы ныне свободны отменно; …В кружках пенился эль,
и коптила свеча, догорая, он пророчески знал, что
ему оставалось недолго… Сентябрь 2016 СЕКРЕТ Король велел поэту
явиться во дворец. Поэт был озадачен, но
сетовать не стал. Он был отменный мастер
и подлинный творец, Поэт явился раньше
назначенных минут, Потом открылись двери,
и он вошёл в покой. Король сидел на стуле
за письменным столом. Он предложил садиться и
указал рукой Король достал тетрадку,
и был в ней текстов ряд, Король спросил поэта: –
Могу ли быть я рад, А потому сегодня
повелеваю вам Прощальная улыбка.
Положенный поклон. Потом читал весь вечер
и понял наконец, Был отзыв, состоявший
из двух коротких строк, где он ничем не выдал
открывшийся секрет: «Я был бы очень
счастлив, когда б увидеть мог, Сентябрь 2016 *
* * Уединённый дом в
зелёной чаще, Дом постоянно тёмный и
молчащий – и в яркий день, и в
черноте ночей. Лишь иногда какое-то
движенье доносится и ночью виден
свет: Совсем уж редко
фортепьяно трели владельцы дома сильно
постарели, И неудобна истина
простая, О том, что тот ручей
неподалёку Сентябрь 2016 *
* *
В. Мы привыкли к датам и
погоде, Двадцать пятый –
юбилей, однако! В прошлое внимательно
глядим, в этот праздник, но не
видим знака, В плошке мёд, гранаты
на подносе, Просто и привычно
произносим И уже не нужно хвойной
смолки, давние обиды все
примолкли, Праздник и возвышенный,
и милый, Многое, увы, промчалось
мимо. Что-то очень главное
сбылось. Сентябрь 2016 *
* * Совсем стемнело, но ещё
не полночь, Но ход часов, понятно,
не оспоришь, Просты мои желанья и не
строги, Ан нет – какой-то
огонёк попался, А тьма такая, что не
видно пальца, По общежитьям и чужим
квартирам и этот огонёк
ориентиром А сердце-то колотится
всё чаще Уединённый дом в
зелёной чаще – ночлег под крышей
обещает он. Хозяев не пугает гость
нежданный; Хозяин дома объясняет
мне: «По возрасту дошли мы
до предела, И я подумал: раз такое
дело – входите в дом и
поселяйтесь тут. И если не страшит вас
эта участь А может, испытанье
будет лёгким, Есть небольшой ручей
неподалёку – он вам поможет обрести
покой. Благодарить не нужно –
мы же люди!.. Вот комната, лежанка и
бельё. Проснётесь утром – нас
уже не будет. Творите тут присутствие
своё». Всё так и было. Я
проснулся утром Сентябрь 2016
*
* *
В. Зелёная стена в оконной
раме Простая мебель, старая
посуда, пути открыты, а в душе
запрет. Рутину неназойливо
сминая, На полках книги, старые
пластинки, Устал от боли и устал
от горя, К чему тогда общение со
знатью, Есть дом, и хлеб, и для
души занятье, Сентябрь 2016 *
* * В раскопе жарко и к
тому же пыльно, зависла пыль, дыханию
мешая. Находки вялы: черепки
обильно да горсть монет – удача
небольшая. Здесь некогда висела
пыль базара, здесь ели, пили, громко
веселились… Нашли казан с пометами
пожара, да ржавый нож, да
спёкшуюся известь. А по соседству – город
современный, Раскоп на месте города
представить И если толковать по
правде высшей, И это будет верно о
хазаре, он уронил монетку на
базаре – и очутился в двадцать
первом веке. Сентябрь 2016 *
* * Есть особенный день в
сентябре, первый шёпот о зимней
поре. Но природа за нашим
окном Потому неизбежна зима: Сентябрь 2016 *
* * Вдруг захотелось – но
мне самому непонятна причина – длинные-длинные строчки
сложить наподобие этой: «Гнев, о богиня, воспой
Ахиллеса, Пелеева сына» – только боюсь, что
созданье моё и закончится Летой. С кем я равняюсь, творя
эти строки, –
с великим и первым,
европейской культуры? Длинные строки дают
утешенье завязанным нервам – так позвоночнику легче
живётся от акупунктуры. Так ли, иначе, а
длинные строки растут понемногу, Прямо по склону – едва
ли получится: очень уж круто; Дальше иду, никуда не
сходя с основного маршрута, Октябрь 2016 ПОЛЬСКИЙ СЮЖЕТ Гжегож Войт,
композитор, отдал предпочтенье деревне и поселился там в доме
тётушки древней. Утром поют петухи, в
хлеву вздыхает скотина, в горнице секретер и
старое пианино. Рано ложатся спать. В
обед за столом не тесно. Чем занимается он,
домашним неинтересно. По воскресеньям костёл,
проповедь выглядит пресно. Чем занимается он,
костёлу неинтересно. Пишет с утра, бренчит,
с обеда бренчит и пишет. В ноты никто не глядит,
бренчанья никто не слышит. К его карьере никто не
проявляет участья, На поезде два часа,
чтобы добраться в Краков, В книжную лавку зашёл,
встретил друга-поэта. Сидя в тихом кафе,
обсудили, счастье ли это. Участья в Кракове нет,
никто и не обещает, И порешили они: так
продолжаться не может; Приближается вечер,
поезд спешит обратно. Как всё сложилось, так
и останется, вероятно. Октябрь 2016 *
* *
В. Если сосредоточиться,
легко увидеть могу Поблизости никого,
только ветер в ушах. Смотрим в глаза друг
другу и оторваться не можем. Понимаем, что помним
каждый наш общий шаг – получится общий путь,
если их вместе сложим. Смотрим и понимаем, что
на этом пути Много нехоженых мест
сумели вместе пройти, Море ровно шумит, и
сожалений нет, Это закатный звук, это
закатный свет, Октябрь 2016
*
* * Я в России ничем не
обласкан, Были изредка нервные
встряски, Так полвека прожил и
уехал – никакого
следа не осталось. Хорошо, что я не был
замечен Хорошо, что я не был
обласкан: Октябрь 2016 БЕГЛЕЦ В полосатой тюремной
одежде и старался не верить
надежде, Он как будто в толпе
растворился, С ним, похоже, Господь
сговорился А сидел он по злому
навету Он воспринял мистерию
эту В дни тюремные – трижды
по двести – разбирал он подробно и
тайно Вот и вольные дни
пролетели, Миг настал – он стоит у
постели и отчётливо тут
понимает, Это горькие добрые
вести, он ушёл от зарока о
мести, Октябрь 2016 ЭКСПЕДИЦИЯ По дороге то пыльной,
то скальной многоместный тяжёлый
состав. Деревянные фуры
стучали, Долгий путь, и капризы
погоды, Нужно к сроку добраться
до места, Обустроиться – дело
простое: Разместили жильё и
приборы, А обоз возвращаться
собрался, Тут начальник внезапно
сказал мне: «Помнишь кручу, где
чёрные камни? Поезжай-ка, дружище,
туда. Передатчик, силки и
ружьишко не придётся на скуку
пенять. Приживёшься, пускай и
не сразу, – станешь нам
промежуточной базой, Не принять предложенье
ты волен, …В бричке запах
карбидный и хлебный, Вот ручей возле
каменной ниши, Экспедиция наша
надолго. Был сперва я в сознании
долга, Говорят, что
довольствуюсь малым Мне виднее. Пускай
говорят. Октябрь 2016 *
* * Современные средства
бывают важны – понимаешь, до точки
дойдя… Записал я на диск два
часа тишины, И когда возникает
назойливый звук – заоконный, домашний,
любой, – запускаю я диск и
пространство вокруг И родится непрочный, но
правильный лад – и душа, и сознание в
нём. Тихо-тихо. Лишь редкие
капли стучат Октябрь 2016 *
* * Я был киевский мальчик
из бедной и тёмной семьи, Я потом обучался
профессиям, нужным всегда, и оно облагало меня
справедливою данью. Я платил эту дань,
отказавшись от многих утех, Я давно уже знаю, что
слава уходит, как дым; Но на старости лет что
с богатством поделать моим? Мне уже ни к чему, а
кому-то отдать невозможно. Ноябрь 2016 ВСЁ ОБНОВИТСЯ В старой тюрьме
производится евроремонт: Время дано, чертежи
обстоятельно чётки, В камерах нары, параша
и мусорный бак, всё обновится. Усилят
оружье охраны. Видео-глаз. Увеличится
свора собак. Для заключённых
построится зал-тренажёр, Узнику будет оброк по
душе и уму, Евроремонт на исходе, и
дело за малым – не поспешая, но быстро
заполнить тюрьму. Ноябрь 2016 *
* *
В. Бродить в ночной
условной тишине, и боль моя была мне
легче вдвое, Мир замыкался в круг
или овал Ноябрь 2016
*
* * Душа моя требует ясного
взгляда, о жизни и смерти, любви
и разлуке, Ноябрь 2016
РИШОН ЛЕ-ЦИОН Нам было не до выбора
тогда – где приземлились, там и
приземлились. Потом привыкли, а потом
влюбились, Но этот – как сказать?
– какой-то свой, Примерно в часе
Иерусалим, застройка без
помпезности красива Мы свой квартал освоили
давно, газоны, лавки, утренние
крики, Уже давно не строится
из них Ноябрь 2016 НАШИВКИ Год рождения – тридцать
седьмой. Я ношу на себе эту
дату, Есть такой же
сомнительный дар, в этом городе был Бабий
Яр. А тогда согласиться
пора, быть евреем всегда
отличимо: И занятья оставили
след, Ноябрь 2016 БАЛЛАДА О ПОРТРЕТЕ
Михаилу Шкляру Бывает, что чудеса
случаются постепенно. Я только в
восьмидесятом узнал про Юделя Пэна: был в Минске в
командировке, в делах возникло «окно»; Музей большой, но
неяркий, хожу, глазею степенно – и вдруг два зала подряд
полотна Юделя Пэна! Внимания в указателях
не было к тем холстам, Были эти холсты
портретными в основном; Помню, остановило меня
лицо с портрета – очень было знакомо,
словно недавно где-то Знакомы седые космы,
торчащие из-под ермолки, Так я и не припомнил,
откуда знакомство это… Потом пути разбежались
во все стороны света, И тридцать лет спустя в
стране, где долгое лето, Я рассказал ему про это
странное эхо Ноябрь 2016 *
* * Уже довольно давно так
происходит это я задаю вопросы, Бог
мне даёт ответы, Проходит какое-то время
– недели, месяцы, годы; похоже, их отвела
сильная чья-то рука. И вместе с этим уходит
странное отупенье, Ноябрь 2016
Вечный сюжет для
пьесы Юноша, с виду мальчик
почти, – Вижу разные в жизни
пути, А дядюшка только
смеётся: – Брось, Юноша, молодой человек, А дядюшка только
смеётся: – Брось, чтобы бедствовать не
пришлось, Племянник снова ищет
совет: – Жаловаться неловко, странная остановка! А дядюшка снова
смеётся: – Брось, – Мудрый был дядюшка у
меня, в суть заглядывал, в
корень! В неге прожи́л свои годы я, В дни сомнений опять и
опять Только вот прямо трудно
стоять, Ноябрь 2016 КОРРИДА фантазия
на тему одноименного фильма Олава Неуланда Не судите меня, не
ругайте меня, не корите – я опять побывал на
жестокой эстонской корриде. На заброшенном острове
встретились трое из города, Но душа – не спина, не
живот, и кровавая рана А коррида не в том,
что, будя ощущения острые, Там коррида людей,
поначалу слегка смешноватая, Двое тех, что моложе,
всё ближе сдвигаются к дому, Но в реальность
событий, которые тщатся быть гордыми, Возникает коррида, их
трое, и выбор богатый: Всё, конечно, условно,
и роли размыты и смазаны, Матадор слабоват,
пикадор трусоват, а рогатый Ну, а что же душа? А
душа, как известно, поранена, И не будет на острове
больше начального лада, Ноябрь
2016
ВЫБОР
Two roads diverged in a yellow wood
Robert
Frost В полузнакомой стороне
лесной и то, покуда лился свет
дневной, – по ним, видать,
немногие ходили. И я не знал, какую
предпочесть. Когда одна, она какая
есть, Добро, что только две,
не пять, не шесть, Пойду по этой,
предположим так; Куда ведёт – в болотный
полумрак, А предположим, я пойду
по той; И выбор этот более
простой, Но это всё не главная
беда, ну разве что приснится
иногда, Ноябрь 2016 *
* * На берегу тесовый дом, Хозяин – старый
человек, А в доме радио бубнит И продолжает жизнь свою есть
упоение в бою с тоской, причудами и
ленью… Подобное преодоленье Для добрых мыслей дом
открыт – был карандаш бы под
рукою, – и за своё житьё такое Декабрь 2016
*
* * Едва заметная тропа,
Что, если нам по ней
пойти? А вдруг удастся там
найти Что можно знать без
общих фраз, Одно лишь – что за
выбор свой Едва заметная тропа, Уже прошло немало дней, по-прежнему предмет для
спора. Но в некий день и в
некий год, И разглядишь в пейзаже
том над крышей скромную
трубу Декабрь 2016
*
* *
В. Послушай, совсем
невозможно сегодня такое представить, противится
прикосновенье, противятся разум и память, Изменятся наши
рассветы, изменятся наши закаты, изменятся дальние
страны, где мы побывали когда-то,
Послушай, совсем
невозможно сегодня представить такое – изменится звёздная
карта, других потрясений не счесть!.. Но мысль совершенно
простая даёт возвращенье покоя: Декабрь 2016 НА МЕЖЕ Современный сонет Иду себе по меже меж
двух земельных наделов. Левый участок жёлт от
созревшей пшеницы. Правый участок зелен, и
вовсе простое дело Иду себе по меже, и
шепчет усталое тело: Зачем пожадничал ты,
зачем тебе два надела? Отдыха нет ни дня –
столько дел накопилось! – Это не просто межа,
это ещё и дорога. Нет, не жадничал я под
этим нещедрым небом – эта дорога была мне
ниспослана Богом И вот я по ней иду,
порою даже бегу, Декабрь 2016 *
* * Есть порядок вещей,
сотворённый, понятно, не нами – все процессы идут по
пути энтропийного роста. Всё на свете разрушится
– трудятся время и пламя, – красоту и гармонию в
будущем сменит уродство. Есть своя красота
иногда и в пейзаже развалин, Человек-созидатель
Всевышнему конгениален: На границе развалин
заботливо сделана надпись, Декабрь 2016 *
* *
В. Днём звучанья мешают –
моторы, бегущие в рейсы, Ночью тихо в округе,
смолкают асфальты и рельсы; Это падают яблоки с
веток домашнего сада: Звук негромок совсем,
но отчётлив – нельзя перепутать, 6 января 2017 г.
Люди в поисках покоя. Люди в поисках уютца. Жизнь с протянутой
рукою. Все довольны, все
смеются. Во главе сексот
мышиный, сзади свита плотным
строем. Невозможно быть
мужчиной. Невозможно быть героем. Производят винтик
ржавый Управление державой Январь 2017 *
* * Сверхпрочный канат, но,
как всякое вервие, гибкий… Под куполом цирка я шёл
по канату с улыбкой. Я шёл, и обслугу, и
зрителей цирка пугая – к страховочной лонже и
тросику не прибегая. Я шёл, и кураж наполнял
моё лёгкое тело, Я шёл по канату, и
двигалась тень на экране, Но вот пробежали и
скрылись лукавые годы, Конечно, могу разрешить
себе номер поплоше, Сверхпрочный канат, но,
как всякое вервие, гибкий… Я верю пока, что ещё
совладаю с ошибкой, Январь 2017
В московском театре
грузинскую пьесу решили поставить, Попробовал в прозе, не
очень-то веря в актёрскую память, Вернулся к стихам, но
изящество речи никак не давалось, На главную роль
режиссёр пригласил пожилого актёра, Любитель стихов, он
готовые тексты освоил, и скоро Но не находя аргументов
прямых для достойного спора, Поэт не нашёл в
сочинении том ни единого слова
и венцом перевода! А старый актёр,
улыбаясь лукаво, сказал режиссёру: – Поэзия, друг мой,
такая порою коварная штука! В другом языке перевод
созидая, стремятся к повтору, Январь 2017 *
* * Совсем не нужно очень
долго жить, Всё главное уже давно
сказал, на тот вокзал, где
ходят поезда А на перроне небольшой
толпой продолжит литься
струйкою скупой. Но, слава Богу,
всё-таки я был Январь 2017
Для житья удобна хата,
и поможет мне природа: Тридцать рэ за стол с
постелью, оставалось тоже тридцать, так что за́ год
постепенно даже смог прибарахлиться. Вот и польские ботинки,
вот и свитер из Китая,
в нём я в обществе блистаю, Эта польская обувка –
не изящные штиблеты: По селу мои ботинки
оставляли след особый, Этот свитер из Китая,
крупной вязки и зелёный, Тридцать стоили
ботинки, тридцать стоил свитер братский, Год работы в сельской
школе, год в селе не столь далёком, Январь 2017
Линолеумный пол,
протёртый до прорех, Хоть стой, а хоть ходи,
но что ты тут ни делай, В палате тоже нет:
соседи говорят, Попросишь тишины –
неверно будешь понят: И снова в коридор –
куда деваться мне? Он из конца в конец
шагов, наверно, двести. Ходи себе, ходи, а хоть
и стой на месте… Но в наступившей тут
внезапной тишине но не рутинный гул
больных и персонала, – другие голоса, ведущие
в начало, И я вхожу туда и сразу
узнаю́ Январь 2017
Поэма 1. Я был взят понятым по
соседству на длительный обыск. В той квартире искали
какой-то таинственный оттиск Капитан и майор,
проводившие акцию эту, «Облегчите себе, да и
нам, неприятную участь. Всё равно мы найдём –
для чего же вам нервничать, мучась? Добровольно отдав
злополучно доставшийся оттиск, А хозяин молчал, но,
момент улучив подходящий быстро мне прошептал:
«Позвоните, пожалуйста, в Обнинск – три-ноль-девять
добавочный – и намекните про обыск». 2. Поздно ночью закончив,
его увезли с компроматом. Опечатали двери. Я
утром пошёл к автоматам, Поначалу за свой
запоздалый звонок извинился, В трубке длилось
молчанье, наверно, не меньше минуты, «Мненья нет у меня –
знаю только название это». «Я вам дам почитать, и
для встречи сгодится примета: в том же месте, откуда
сейчас вы со мной говорите». Повстречались назавтра.
Примета, достигшая цели: Вместе с томиком Гессе,
хранившим величия отблеск, 3. Четверть века я
про́жил, а всё же не видел чего-то. Был диплом инженера,
была неплохая работа, был на радио я
оператором записи звука. Почему я вошёл в
телефонную ту авантюру? Сам себе не отвечу;
наверное, всё-таки сдуру. Или, может быть, так,
что доверьем к себе приковали Я прочёл этот оттиск
раз пять, и не менее, кряду, Где я был до сих пор
при наличии зренья и слуха, Понял я про ГУЛАГ и с
великим вождём разобрался, про былой Будапешт и
про танки на улицах Праги. Появились контакты.
Друзьями назвать их едва ли, И дожда́лись. И я,
наблюденьем пока не опутан, приносил, уносил,
иногда размножал при удаче, – и мудренье моё
потихонечку двигалось дальше. 4. Позвонил рано утром
один из недавних знакомых: Приглашаю и вас
появиться в собрании оном: Я, конечно, пришёл,
прихватив и свои причиндалы. Человек двадцать пять –
для обычной квартиры немало, В центре – питерский
гость,
непрерывно
курящий и рыжий. Но какие стихи!.. Дав
команду вращаться бобинам, И темны берега, но на
звучное слово Поэта Вдаль уносится лодка,
пустыми мечтаньями дразнит, А ещё через месяц из
Питера весть долетела, И тогда осознал я:
настала пора торопиться, А решившись на это,
сомненьями не был изранен В монотонном отказе
провёл я почти семилетку; Незадолго до них
получил разрешенье на выезд – видно, власти решили,
что этот секреты не выдаст!.. 5. Шереметьево – Вена. А
дальше – естественно это – я полёт свой направил
туда, где жилище Поэта, Так и вышло. Начало
кассетам, а позже и дискам, Мы встречались нечасто
– на бо́льшее не было права: Набегала неделя в году
– и отлично, не сетуй, И однажды Поэт, за моей
наблюдая работой, Сочиняя стихи – вот
какая занятная штука! – я ведь тоже служу
оператором записи звука. Этот звук не для всех,
лишь немногим даётся от Бога; Тут не стопы и слоги,
нелепые чёт или нечет – примитивный подсчёт
стихотворчества не обеспечит. Тут улавливать нужно –
с дороги, из дома, из чащи, И когда уловил и
скрепил на бумаге словами, А когда не услышал –
писать-то и повода нету, Он, конечно, напишет –
уменье в руке остаётся, – только зряшное всё: не
читается и не поётся». …Двадцать лет
пролетело,
а живы в душе те мгновенья – речь картавая эта, и
лестное это сравненье, Январь 2017 *
* * Это воспоминанье
куда-то в сторону тянет Были Симха и Рут,
коренные израильтяне; Симха, сотрудник МИДа,
два года провёл в России; А мы были репатрианты,
зелёные и сырые, Тенистая тихая улочка
Северного Тель-Авива. Вспоминаю добрую
медленную беседу. Потом возили по городу,
по местам особо красивым. Потом возвратились в
дом, и нас пригласили к обеду. Были мы очарованы
хозяевами, квартирой, Общение по телефону
длилось месяца три-четыре, Это воспоминанье и
приходит нерегулярно, Просто две линии жизни
шли перпендикулярно, Одна отдельная точка во
всякое время суток Оглянись – и увидишь
собственной жизни рисунок: Январь 2017
*
* * Они углубились в
осенний сухой перелесок, а весь перелесок
сплошною объят тишиною – ни ветер, ни птицы не
вторглись в молчанье земное. И он, и она по пути
напряжённо молчали – слова неизбежные
сказаны были вначале: Зачем же прогулка,
зачем же тогда перелесок? Наверно, был нужен
какой-то спокойный довесок Молчащая роща – и
бедность она, и богатство; разрыв отложился, а всё
же потом состоялся. И вряд ли годится
назвать это действо счастливым, Февраль 2017 В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ В коммунальной квартире
сложился особенный мир, что у каждого тайна, но
ведать её не дано; В коммунальной квартире
сложился особенный быт: Здесь и разные люди, и
в комнатах разных живут, В коммунальной квартире
сложился особенный лад, Я построил квартиру, и
я же её населил, Февраль 2017 *
* * Вся жизнь была одни
сплошные гонки, Остоженки, Неглинки и
Волхонки Рассыпались высокие
барьеры, широкие признанья и
награды. И оказалось, что куда
весомей Когда в душе такое
равновесье, которые с земли
неразличимы. Февраль 2017 *
* *
Сначала всё шло по единому плану,
в котором пока что нет места капкану:
родившийся в клетке и выросший в клетке,
ты сам на дороге расставишь пометки,
что можно, нельзя, и в открывшемся поле
земных вариантов по собственной воле
ты планы не спутаешь выбором вздорным,
а будешь покорным, а будешь покорным.
Ты будешь покорным, не зная об этом,
поскольку тебя объявили поэтом.
Тебя уважают, тебя ублажают –
и этим же самым тебя унижают!
Всё так бы и было, но ты отличился –
в твоём варианте изъян приключился: Твой путь продолжался,
ты двигался дальше,
Родившийся в клетке и выросший в клетке,
Тогда на пути появились капканы.
Когда
возникает прямая угроза,
никак не уйти от прямого вопроса:
Неужто привычные долы и воды
Родившийся в клетке и выросший в клетке,
Февраль 2017
СПЕКТАКЛЬ Вот фрагменты
спектакля, застрявшие в памяти с детства: И на сцене идёт изнутри
раскалённое действо, В центре – он и она. Он
– молчащий в течение пьесы, А хозяйка – она. У
хозяйки густы интересы, Но срывается всё по
какой-то случайности глупой, Жизнь винить бесполезно
– она никому не подсудна, Пьеса ближе к финалу
становится пьесой абсурда, Почему-то все ждут от
хозяина громкого слова, А хозяин молчит, а
потом произносит сурово: – А идите вы все!..
– и такое отчаянье в позе!.. Февраль 2017 *
* * Постепенно уходят в
прошлое журналы и альманахи, редакторские поправки и
рецензентов отзывы, Печатные издания почти
рудиментом стали, Но причастные к Ордену
трудиться не перестали Входящие в Орден
печальны и весьма терпеливы, Но культура – это
преемственность, а тут налицо разрывы Что со всем этим
делать? Вопрос не то чтобы праздный – это вопрос, на который
нет ответа у современников. Поэт на месте тогда,
когда он хороший и разный, И равнодушные люди в
стена́х равнодушных комнат Февраль 2017 *
* *
Полвека там и
четверть века тут –
вся
жизнь вместилась в эти два отрезка.
Иное нынче
видится нерезко,
Непросто всё
расставить по местам –
мои зарубки
время перемесит…
А всё же
четверть века перевесит
Не стану
утверждать наверняка,
Событий меньше
– плотность велика.
26 февраля 2017
г.
*
* *
В. Никаких границ для
сравнений нет, Вот сказал один хороший
поэт, А листва и шепчет, и
говорит, для любых просодий тут
путь открыт, Но листва, которая надо
мной, В них тревоги долгих и
трудных лет, И ещё немного на звук
струны, А когда окончилось
забытьё Март 2017
|